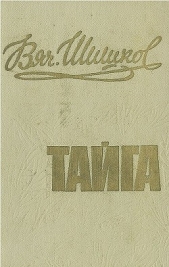Дремучие двери. Том I

Дремучие двери. Том I читать книгу онлайн
Фантастический роман Юлии Ивановой «ДРЕМУЧИЕ ДВЕРИ» стал сенсацией в литературном мире ещё в рукописном варианте, привлекая прежде всего нетрадиционным осмыслением — с религиозно-духовных позиций — роли Иосифа Сталина в отечественной и мировой истории.
Не был ли Иосиф Грозный, «тиран всех времён и народов», направляющим и спасительным «жезлом железным» в руке Творца? Адвокат Иосифа, его Ангел-Хранитель, собирает свидетельства, готовясь защищать диктатора на Высшем Суде. Сюда, в Преддверие вечности, попадает и героиня романа, ценой собственной жизни спасая от киллеров Лидера, противостоящего новому мировому порядку грядущего Антихриста. Здесь, на грани жизни и смерти, она получает шанс вернуться в прошлое, повторить путь от детства до седин, переоценить не только свою личную судьбу, но и постичь всю глубину трагедии великой страны, совершившей величайший в истории человечества прорыв из царства Маммоны, а ныне умирающей вновь в тисках буржуазной цивилизации, «знающей цену всему и не видящей ни в чём ценности»…
Книга Юлии Ивановой привлечёт не только интересующихся личностью Иосифа Сталина, одной из самых таинственных в мировой истории, не только любителей острых сюжетных поворотов, любовных коллизий и мистики — всё это есть в романе. Но написан он прежде всего для тех, кто, как и герои книги, напряжённо ищет Истину, пытаясь выбраться из лабиринта «дремучих дверей» бессмысленного суетного бытия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть мудрая молитва старцев: «Господи, дай мне силы свершить то, что я могу изменить; терпение — перенести то, что я не могу изменить, и мудрость отличать одно от другого».
Не может человек, приносящий плоды добрые, действовать от имени сатаны, какую бы веру он ни исповедывал. Не может полководец сражаться против собственной армии, ибо разделившееся в себе царство не устоит. Не может человек, искренне служа Небу, приносить злой плод.
Патриархи Сергий и Алексий Первый называли Иосифа Сталина богоданным вождём. Крупный учёный и богослов архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), кстати, сидевший при Сталине, тоже считал его богоданным…
«Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира… Поэтому я как православный христианин и русский патриот низко кланяюсь Сталину». /Священник Дмитрий Дудко/
1940 г. Принимает в Кремле участников героического дрейфа ледокола «Седов». Руководство работой пленума ЦК ВКПб. Участие в работе 6 сессии Верховного Совета СССР I созыва. Участие в работе 3 сессии Верховного Совета РСФСР I созыва. Руководство работой пленума ЦК ВКПб. Участие в работе 7 сессии верховного Совета СССР I созыва. Приём в Кремле представителей народов «Бессарабии и Северной Буковины, членов Полномочных Комиссий сеймов Литвы, Латвии и Государственной думы Эстонии.
1941 г. Руководство работой 18 Всесоюзной конференции ВКПб. Речь в Кремле на торжественном заседании, посвящённом выпуску командиров, окончивших военные академии. 6 мая — назначение председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
Итак, в середине пятидесятых Ганя оказался в Ленинграде. Приближалась хрущёвская оттепель, время выставок, отчаянных дискуссий, разного рода фестивалей и эрозии железного занавеса. Вот в это-то отрадное для всей творческой интеллигенции, особенно студенчества, время Ганя начал замечать в себе полное отсутствие интереса к волнующим оттаивающее общество проблемам. Когда стали говорить, что вождь оказался не «великим другом и вождём», не «полётом нашей юности», а совсем наоборот, что белое оказалось чёрным, добро — злом, а правда — ложью, когда стали критиковать «порядки в вагоне», менять полки и занавески, бегать в запрещённый прежде вагон-ресторан и другие вагоны, иногда совсем туда перебираясь, срывать портреты и вешать новые, Ганя в те годы хрущёвской оттепели продолжал безучастно сидеть на прежнем месте у вагонного окна. Он видел стремительно несущееся навстречу будущее, которое тут же за спиной превращалось в прошлое. Если же сесть спиной к движению, увидишь лишь уносящееся прочь прошлое. Настоящего за окном не было. А суета в вагоне, брюзжанье, что пора бы новому проводнику нести чай, и заманчивый комфорт других вагонов, — всё это слишком казалось реальностью, чтобы быть ею. Реальностью были лишь раз и навсегда проложенные рельсы, мелькающее за окном время и не их проводник, который был сам всего лишь пассажиром в этом поезде смертников, а Машинист, — безглазый бессмертный, единственно ведающий, когда кому сходить навсегда из уютных вагонов в ночную тьму. Безглазый, потому что рельсы надёжно вели в никуда, сойти с них поезду было невозможно. Бессмертный, пока есть работа, есть, кого убивать. Бессмертный, пока идёт поезд, убийца всякой жизни, — он обрушится в никуда вместе со своим пустым поездом, как капитан, исполнивший долг до конца.
Только у него хранятся проездные билеты, нанизанные как чётки, на нить жизни, он дремлет, перебирая их костяшками пальцев, время от времени отрывая использованные и выбрасывая через окно в несущееся прочь прошлое.
— Любопытно, — думал Ганя, если бы эти билеты с проставленными датами казни были розданы пассажирам на руки — занимались бы они с таким же упоением купейно-вагонными общепоездными проблемами временного своего пристанища. Наверное, нет. Даже те, у кого были в запасе несколько десятков лет, наверное, с особой остротой осознали бы, что уходить придётся одному. Точная дата — неужели она так много значит? Ведь в любом случае через несколько десятков лет не останется никого среди едущих ныне. Почему они живут так, будто никогда не сойдут с поезда? Что создаёт эту странную иллюзию бессмертия? Мы — человечество? Пока оно живо — жив и я? Какой абсурд! Почему все безумно боятся какого-то всеобщего конца света и не понимают, что начало и конец света у каждого свой, персональный? Рождение и смерть. Каждый — замкнутый в себе мир, имеющий начало и конец. И когда рушатся прекрасные миражи вроде «нашего паровоза», летящего вперёд ко всеобщему счастью, когда трагическая обыденность жизни придавливает к земле, — остаётся лишь пировать во время чумы в ожидании, когда тебя позовут на выход «без вещичек».
Вкалывать, размножаться, развлекаться и отвлекаться, кто как может. И даже пытаться превратить этот наш общий катафалк во всемирный образцово-показательный передвижной состав прогресса. Одна из его работ так и изображала бесконечную вереницу сцепленных друг с другом катафалков, из которых торчали то ноги в чёрных чулках и спортивных шароварах, то рука с нанизанным на вилку недоеденным куском мяса, или с папкой для бумаг, с пистолетом и садовым секатором, мёртвые головы в бигудях, строительных касках и профессорских шапочках.
Жизнь — трагическая бессмыслица, это было ясно, но не плакать же теперь, в самом деле, целыми днями! И если строить проекты счастливых, весёлых, передовых и технически оборудованных катафалков глупо и смешно, не говоря уже о том, чтобы во имя этих проектов проливать свою или чужую кровь, если постараться вести бездумно-животную жизнь пошло, а эгоистически-элитарную — низко, то и спрыгивать раньше времени с поезда всё-таки не стоит.
— Я — художник, — в который раз убеждал себя Ганя, — Избранник Божий. Я могу говорить с самим Творцом на языке творчества, а не задаваться бесполезными вопросами о смысле сотворённого Им мира.
И Ганя, не из конъюнктурных соображений, а чтобы просто утешить себя, старался по-прежнему замечать и писать лишь мажорное и прекрасное. Но если прежде это удавалось само собой, то теперь приходилось искусственно поддерживать в себе жизнеутверждающее мироощущение. Впрочем, он пил, как все, не больше, быстро шёл в гору. Ленфильм, Союз художников, персональные выставки, благожелательная пресса. Тётка умерла, завещав ему квартиру. Женился, родилась дочь, купили машину. Алла получила права.
В том, что случилось, виноват он и только он. Алла спивалась — он это видел и ничего не предпринимал. Она была с ним несчастна — она оставалась взбалмошным ребёнком, абсолютно не умеющим сдерживать свои чувства, неистовые и в горе, и в радости. Эта её первобытная естественность, так его привлекавшая на заре их романа, обернулась для него ловушкой, исправительной колонией строгого режима. Любое проявление неискренности, несправедливости, чёрствости с его стороны мгновенно замечалось ею, и, если он не подавал признаков раскаяния, выносилось на всенародное обсуждение — родственников, друзей, просто первых встречных. Если он виноват, надо всем вместе помочь ему исправиться — искренне считала она, и против этого трудно было возразить, если воспринимать мир и всех, как она, по-детски, изначально хорошими, где просто надо ставить друг друга в угол для обоюдной пользы. Ганя не поддавался, защищая своё право быть плохим и постепенно зверея.
Он перестал бывать дома, неискренность сменилась прямой ложью, несправедливость — злобой, чёрствость — жестокостью. Теперь тигр дрессировал свою дрессировщицу, приучая её к звериной своей природе; защищая звериную свою свободу и право быть диким.
Внешне Алла вроде бы поддалась, но загнанный внутрь протест против несовершенства бытия в лице собственного мужа и действительности обернулся бегством от этой действительности. Когда после пары бокалов шампанского / пила она только шампанское, сладкое или полусладкое/ раскрасневшаяся, с фосфоресцирующими, бесподобно подкрашенными глазами проповедница начинала призывать ко всеобщей любви, правдивости и целомудрию — вокруг сосредоточивалась толпа гостей. Говорила Алла красиво и трогательно, детским чуть завывающим голосом и какими-то странными импровизированными притчами: «А ещё жил однажды в Китае мальчик…» Под «живущим в Китае мальчиком» подразумевался, разумеется, он, Ганя, — Алла всегда использовала для своих сюжетов особо тяжкие его проступки за последнюю неделю. И хотя понятно это было только им двоим, Ганя приходил в бешенство. Он специально купил ей машину и не стал сам учиться водить, но Алле удавалось укрощать самых суровых гаишников. Она целовала блюстителя порядка в щёку и просила прощения. Поцелуй бывал самый невинный, но это-то и срабатывало. И еще искренность. Она никогда не говорила: «я больше не буду», не придумывала всяких оправдательных историй, как другие дамы за рулём. «Выпила два бокала шампанского, — говорила она, — вот таких, больших. Пожалуйста, простите меня…» В тот вечер она выпила гораздо больше…