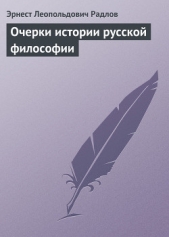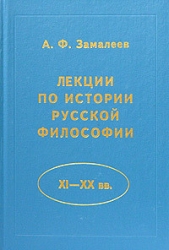История русской философии т.1 ч.I-II

История русской философии т.1 ч.I-II читать книгу онлайн
Обзор российской философии от Сковороды до Леонтьева и Розанова.
«Мне могут сделать упрек в том, что я не только излагаю и анализирую построения русских философов, но и связываю эти построения с общими условиями русской жизни. Но иначе историк — и особенно историк философской мысли — поступать не может. Насколько в русской философии, несмотря на ее несомненную связь и даже зависимость от западно-европейской мысли, развились самостоятельные построения, они связаны не только с логикой идей, но и с запросами и условиями русской жизни. Насколько мне удалось вскрыть внутреннее единство и диалектическую связность в развитии русской философии, я старался представить это в своей книге с максимальной объективностью.»
Прот. В. Зеньковский. 1948 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но здесь начинаются парадоксы, в которых раскрывается уже не только эта основная этическая сущность человека, но и вся проблематика человека. Прежде всего с исключительной едкостью Достоевский высмеивает тот поверхностный интеллектуализм в понимании человека, который достиг наиболее плоского своего выражения в построениях утилитаризма. «Записки из подполья», в бессмертных страницах, говорят о том, что «человек есть существо легкомысленное», действующее менее всего для собственной выгоды: «когда, во все тысячелетия бывало. чтобы человек действовал из одной своей выгоды?» Представление о человеке, как существе рассудочном, а потому и благоразумном, есть чистая фикция, — «так как натура человеческая действует вся целиком, — всем, что в ней есть — сознательно и бессознательно». «Хотенье может, конечно, сходиться с рассудком…, но очень часто и даже большей частью совершенно и упрямо разногласит с рассудком». «Я хочу жить, — продолжает свои замечания человек из подполья, — для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, — а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности. Рассудок удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей человеческой жизни». Самое дорогое для человека — «свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы и дикий, каприз»; самое дорогое и важное для человека — «по своей глупой воле пожить», и потому «человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевает ему разум и совесть».
Психологический волюнтаризм переходит у Достоевского незаметно в иррационализм, в признание, что ключ к пониманию человека лежит глубже его сознания, его совести и разума, — в том «подполье», где он «сам». Этический персонализм Достоевского облекается в живую плоть действительности: «ядро» человека, его подлинная суть даны в его свободе, в его жажде и возможности его индивидуального самоутверждения («по своей глупой воле пожить»). Онтология человека определяется этой жаждой свободы, жаждой быть «самим собой», — но именно потому, что Достоевский видит в свободе сокровенную суть человека, никто глубже его не заглядывал в тайну свободы, никто ярче его не вскрывал всю ее проблематику, ее «неустроенность». Бердяев справедливо подметил, что для Достоевского «в свободе подпольного человека заложено семя смерти». Если свобода дороже всего человеку, если в ней последняя его «суть», то она же оказывается бременем, снести которое слишком трудно. А, с другой стороны, в нашем подполье, — а «подпольный» человек и есть как раз «естественный» человек, освободившийся от всякой традиции и условности, — в подполье нашем, по выражению Достоевского, ощущается смрад, обнажается внутренний хаос, злые, даже преступные, во всяком случае постыдные, ничтожные движения. Вот, например, Раскольников: разложив в работе разума все предписания традиционной морали, он стал вплотную перед соблазном, что «все позволено», и пошел на преступление. Мораль оказалась лишенной основания в глубине души, свобода оборачивается аморализмом; напомним, что и на каторге Раскольников долго не чувствовал никакого раскаяния. Поворот пришел позже, когда в нем расцвела любовь к Соне, а до этого в его свободе он не находил никакого вдохновения к моральному раздумью. Это вскрывает какую-то загадку в душе человека, вскрывает слепоту нашей свободы, поскольку она соединена только с голым разумом. Путь к добру не определяется одной свободой; он, конечно, иррационален, но только в том смысле, что не разум движет к добру, а воля, силы духа. От того-то в свободе quand meme, оторванной от живых движений любви, и есть семя смерти. Почему именно смерти? Да потому, что человек не может по существу отойти от Добра, — и если, отдаваясь свободной игре страстей, он отходит от добра, то у него начинается мучительная болезнь души. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов по-разному, но все страдают от того, что заглушили в себе живое чувство Добра (то есть Бога), что остались сами с собой. Свобода, если она оставляет нас с самими собой, раскрывает лишь хаос в душе, обнажает темные и низшие движения, то есть превращает нас в рабов страстей, заставляет мучительно страдать… Это значит, что человек создан этическим существом и не может перестать быть им. С особенной силой и болью говорит Достоевский о том, что преступление совсем не означает при родной аморальности, а, наоборот, свидетельствует (отрицатель но) о том, что, отходя от добра, человек теряет нечто, без чего ему жить нельзя. Еще в «Записках из Мертвого дома» он писал: «сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уже все сказать: да, это был необыкновенный народ, может быть, самые даровитые, самые сильные из народа». Несомненно, что это были люди, наделенные не только большой силой, но и свободой — и свобода-то их и сорвала с путей «традиционной» морали и толкнула на преступление. Вот и семя смерти! В «Дневнике писателя» за последние годы [1125] Достоевский писал: «зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно». Шестов [1126] напрасно видит в этом «реабилитацию подпольного человека», — наоборот, подчеркивая всю таинственность зла в человеческой душе, Достоевский показывает неустроенность человеческого духа или лучше — расстройство его, а вместе с тем и невозможность для человеческого духа отойти от этической установки. «Семя смерти». заложенное в свободе, означает, что расстройство духа имеет корень не на поверхности, а именно в последней глубине духа, ибо нет ничего глубже в человеке его свободы.
Проблематика свободы в человеке есть вершина идей Достоевского в антропологии; свобода не есть последняя правда о человеке — эта правда определяется этическим началом в человеке, тем, к добру или злу идет человек в своей свободе. Оттого в свободе есть, может быть, «семя смерти» и саморазрушения, но она. же может вознести человека на. высоты преображения. Свобода открывает простор для демонизма в человеке, но она же может возвысить ангельское начало в нем. Есть диалектика зла в движениях свободы, но есть и диалектика добра в них. Не в том ли заключается смысл той потребности страдания, о которой любил говорить Достоевский, что через страдания (часто через грех) приходит в движение эта диалектика добра?
Эта сторона, в антропологии Достоевского часто забывается или недостаточно оценивается, — между тем в ней лежит ключ к объяснению той системы идей, которую мы характеризовали выше, как «христианский натурализм» у Достоевского. Приведенные мельком (в «Идиоте») слова о том, что «красота спасет мир», вскрывают эту своеобразную эстетическую утопию Достоевского. Все его сомнения в человеке, все обнажение хаоса и «семени смерти» в нем нейтрализуются у Достоевского убеждением, что в человеке таится великая сила, спасающая его и мир, — горе лишь в том, что человечество не умеет использовать эту силу. В «Дневнике Писателя» (1887 г.) Достоевский написал однажды: «величайшая красота человека, величайшая чистота его… обращаются ни во что, проходят без пользы человечеству единственно потому, что всем этим дарам не хватило гения, чтобы управить этим богатством». Значит, ключ к преображению, к устроению человека в нем есть, и мы только не умеем овладеть этим ключом.
Старец Зосима высказал такую мысль: «мы не понимаем, что жизнь есть рай (уже ныне, В. 3.), ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он предстанет перед нами во всей своей красоте». В замечательных словах Версилова («Подросток») по поводу картины Лоррена выражена та же мысль о том, что свет и правда уже есть в мире, но остаются нами незамеченными. «Ощущение счастья, мне еще неизвестное, прошло сквозь сердце мое даже до боли». В чудной форме это ощущение святыни в человеке передано в гениальном «Сне смешного человека». В материалах к «Бесам» находим такое место: «Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске, на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале, — что это и естественно и возможно». Как ясно из этих слов, это основное учение Достоевского о человеке ближе к антропологии Руссо (с его основным принципом о радикальном добре в человеке), чем к антропологии Канта (с его учением о «радикальном зле в человеке»).