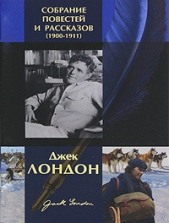Ночные любимцы
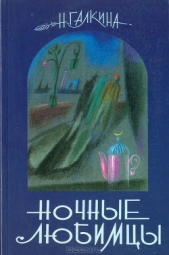
Ночные любимцы читать книгу онлайн
Герои прозы Н.Галкиной - люди неординарные, порой странные, но обладающие душевной тонкостью, внутренним благородством. Действие повестей развивается в Петербурге, и жизненная реальность здесь соседствует с фантастической призрачностью, загадкой, тайной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Где же я слышала прежде о взаимодействии реального мира и мистического? Выготский! Он так о «Гамлете» написал в своей "Психологии искусства" (наши студенты ее читали запоем)! По его словам, трагедия написана именно о взаимодействии миров, и по сравнению с тенью отца Гамлета, с посланцем иного мира, всё — "слова, слова, слова", и принц датский медлит, оцепенев, охваченный печалью и холодом нездешним. Я закрыла книгу о снах, открыла снова, как бы гадая, и взгляд вырвал из текста строчку: "Маска выдохлась, и в ее труп вселились чуждые, уже не причастные религии силы".
Больше я читать не могла и не хотела. Как тень, пошла я в институт, занятия чуяли наступление каникул, кое-как отзанималась я живописью, поприсутствовала на истории искусств, чирикая профили на полях тетради, молча и механически отработала в гипсомодельной мастерской, потом бродила по Летнему саду, словно ища неизвестно кого, надеясь встретить. Если Хозяин и вправду был человеком порога, человеком межи, и оба мира были ему равно свои или одинаково чужие, становилась понятна сквозившая даже в смехе его — а он любил посмеяться — глубокая гамлетовская грусть. Впрочем, если он всего-навсего явился из осьмнадцатого столетия, за три милых века можно было всякой всячины навидаться, к веселью не располагающей, да еще с количественным, на несколько жизней, перебором.
Грустью веяло от мерцающих белонощной белизной статуй Летнего сада. Раньше их общество успокаивало и утешало меня. В их компании обретала я душевное равновесие, веселье, уверенность в себе; они тоже были ночные любимцы, брезжащие в июньской листве копии римских копий; но они молчали, и во мне все молчало и померкло, и, потеряв надежду автоматически прийти в хорошее настроение, возрадоваться по привычке на второй скамейке боковой аллеи, я оставила и Януса, и Беллону, и Лето медитировать под сенью кленов и лип и поплелась нехотя, как старая лошадь в стойло, по Фонтанке.
Флер рождественского праздника, пронизывающий воздух ночных посиделок, растаял. Несмываемая тень вишневой маски застилала мне жизнь. Восприятие ли мое изменилось, я ли сама, но в каждой реплике слышались фальшивые ноты; может, из-за собственного вранья слух у меня на них обострился, или видела я изнанку, швы, где мерещились мне прежде праздничные одежды. Должно быть, прежнее желание постоянно присутствовать на рождественском празднике тоже грешило противу правды, было нескромным и нелепым, и теперь за тягу к круглогодичному карнавалу приходилось расплачиваться.
— О чем вы так задумались, Ленхен? — спросил Сандро.
— Мне стало жаль дьявола, ему так мучительно скучно с людьми.
Эммери перестал качаться в качалке, отвлекся от зрелища оконного проема и воззрился на меня.
— Сколько раз я просил не поминать его к ночи, — сказал Хозяин.
— К утру, — отвечала я чуть не плача.
— Ну, всё, всё, — сказал Сандро, — не наливайте ей больше ликера. Лена, со следующего понедельника мы с вами вступаем в общество трезвенников. Иначе нам грозит круглосуточное похмелье на всю пятилетку. Не возражайте. Сядьте на диван, Шиншилла, уступите даме уголок поуютней. Вот уже золотую лютню солнца убрали в футляр запада и достали из чехла востока серебряный ребаб месяца, и взошла звезда Зуххаль, ввергая в небесную сферу принадлежащее ей седьмое небо. Ганс продолжал идти куда глаза глядят по улицам и улочкам Пальмиры, пока не догнал одного из изгнанных музыкантов, вытирающего лицо рукавом изодранной одежды, лишившегося лютни, барбитона либо каманджи. Ганс похвалил игру бывшего оркестра и подивился борьбе верующих с музыкой.
— О! — воскликнул лютнист без лютни. — Я и сам принял ислам и уважаю правоверных: но мне непонятны ничего не ощущающие при звуках музыки, считающие два различных напева одним и не отличающие воя волка от воя шакала. Прав мудрец, говоривший: общества подобных людей следует избегать, ибо лишены они признаков человеческого и к роду людскому не принадлежат; к тому же у всякого, на кого музыка не действует, расстроено здоровье: он нуждается в лечении.
— Может, расправившимся с вами не нравится состояние ваших слушателей, впадающих в исступление? Не скрою, — сказал Ганс, — в музицировании вашем присутствовало нечто чародейское, я и сам чувствовал сильное сердцебиение и подступающие слезы.
— О чужеземец! — сказал музыкант. — Музыка — удел духа; возможно, человеку надлежит сдерживаться и не проявлять тревоги, тоски или радости, возникающих в нем, благодаря напевам, столь бурно; видимо, у некоторых силы телесные выходят из повиновения, силы душевные не справляются с ними, и в этом есть нечто неподобающее. Слышал ли ты про ходжу Джунайда?
— Нет, — отвечал Ганс.
— Как-то раз в присутствии ходжи Джунайда, да освятит Аллах могилу его, некий дервиш издал вопль отчаяния во время пения. Ходжа Джунайд гневно глянул на вскрикнувшего, и дервиш накрыл голову своей власяницей. Пение длилось долго, и когда подняли власяницу, под ней оказалась лишь кучка пепла. Звуки музыки разожгли пламя тоски в дервише, а, повинуясь гневному взору ходжи Джунайда, он заключил в себе языки огня, не позволяя им более вырываться наружу.
Ганс вздохнул.
— Согласись, — сказал он, — тут тоже без чародейства не обошлось.
— Многие говорят, — сказал музыкант, — в голосах барабанов чудится смех Иблиса, ибо он сам их и изобрел и, изготовив, смеялся над людьми, которым предстоит наслаждаться звуками ударных. Я-то играл на струнных, обязанных своим происхождением обезьяне и тыкве. Но в ближайшее время вряд ли я добуду себе лютню, барбитон либо ребаб. Похоже, придется мне довольствоваться тростниковой дудочкой.
— А я так очень люблю духовые инструменты! — с воодушевлением крикнул Ганс. — Я их люблю за то, что связаны они с человеческим дыханием, и за разнообразие издаваемых ими звуков, родственных птичьему щебету, свисту ветра и трубному гласу ангелов.
— Хорошо ты сказал, сина, ты прав. Куда ты сейчас направляешься?
— Никуда. Я никого не знаю в Пальмире и никогда не бывал тут прежде.
— Мы дошли до моего дома и, если хочешь, могли бы лечь спать на крыше, никого не беспокоя.
Ганс уже знал, что на Востоке принято спать под открытым небом таким образом, и даже правители частенько спали на плоских крышах своих дворцов. Он улегся на старую, превратившуюся в кожу, звериную шкуру; под головой у него была многоцветная подушка с выцветшим рисунком; над ним пульсировали огромные звезды Зуххаль и Бахрам, светились загадочно Катафалк, Лужок и Два Тельца; ему приснился сон про синего шакала и красную обезьяну, которые никак не могли поделить царства музыки, хотя вовсе не годились в правители этого царства. Тем не менее они упорно повелевали, и из-за экзотической раскраски многое сходило им с рук. В царстве музыки всё и вся музицировали: и кузнечики, и цикады, и осы, и германские эльфы, прилетевшие временно в теплые края, и барабанившие лапками по высушенным тыквам мартышки, и эблаитские пери, и сами аравийские пески, поющие пески, дышащие, перемещающиеся барханы, звенящая мошкара песчинок, подвластных огромной, невидимой, но обрисовывающей их рои трубе аравийского ветра.
Красная обезьяна обожала пчелиный хор неприхотливых черных и капризных красных пчел; впрочем, любила она и мед; посему в ее покоях полно было обычных ульев, напоминающих темно-коричневые керамические бутылки, и ульев бедуинских — огромных кожаных бурдюков. А синий шакал требовал сольных восхвалений, и на его половине дворца пел соловей, рычал тигр, лаяла лисица, молчала в потаенном восторге выпучившая глаза золотая рыбка. В конце сна синего шакала и красную обезьяну в результате сложных дворцовых интриг изгоняли, и царем музыки становился крошечный разноцветный жаворонок Абу Баракиш, гордо появившийся на подоконнике второго этажа дворца и крикнувший всем своим, облепившим дворец, подданным древнее приветствие: "Семья! Приют! И простор!"
На последнем слове приветствия Ганс и проснулся, отнюдь не на просторе и даже не на крыше, а в весьма тесном помещении.