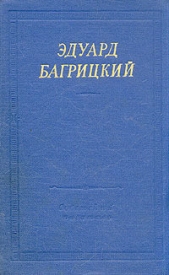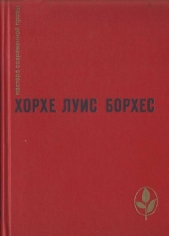Избранное
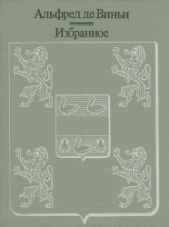
Избранное читать книгу онлайн
В сборник известного французского писателя XIX века Альфреда де Виньи вошли три пьесы: «Супруга маршала д’Анкра», «Чаттертон» и «Отделалась испугом», повесть-триптих «Стелло» и ряд стихотворений. Все переводы, кроме двух стихотворений «Рог» и «Смерть волка», публикуются впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они были побеждены — прочее меня не интересовало. Я остался на месте и, схватив длинные бесхитростные руки своего простодушного канонира, произнес такой панегирик:
— О Блеро, имя твое не займет места в истории и ты ничуть не огорчишься этим, лишь бы у тебя была возможность спать днем и ночью, причем неподалеку от Розы. Ты слишком прост и скромен, потому что, клянусь тебе, среди тех, кого историоплеты называют великими, мало таких, кто совершил столь же великое деяние, какое совершил ты, великий Блеро! Теперь к власти придут другие, кого увенчают хвалой за твой подвиг и кого твое дыхание могло рассеять, как дым, торжественно поднимающийся из твоей трубки. О девятом термидора будут писать много и долго, может быть, всегда, но никому не придет в голову выказать тебе благоговейное уважение, которое ты заслужил, равно как все люди действия, почти не думающие о том, что они делают, и не знающие, как у них получается то, что они все-таки сделали, хоть им и не свойственны ни
твоя скромность, ни твоя философская неискушенность. Пусть же никто не скажет, что я тоже не воздал тебе должное.
Именно ты, о Блеро, воистину выступаешь сегодня как человек судьбы.
Говоря это, я склонился перед Блеро с подлинным почтением и смирением: я недаром заглянул в источник одного из крупнейших мировых политических событий.
Не знаю уж почему, Блеро решил, что я потешаюсь над ним. Он мягко и уважительно выпростал руки из моих ладоней и почесал в затылке.
— А вы не будете добры посмотреть мое левое плечо? Так, одним глазом,— попросил этот великий человек.
— Законное пожелание,— откликнулся я.
Он закатал рукав, я взял факел.
— Благодари Анрио, парень,— сказал я.— Он убрал самые опасные из твоих иероглифов. Лилии, Бурбоны и Мадлена содраны вместе с кожей. Послезавтра будешь здоров и женат, если захочешь.
Я перевязал ему руку своим платком, увел его к себе, и как сказал, так и сделалось.
А я надолго потерял сон.
Вы слишком хорошо знаете свет, чтобы я стал уверять вас, будто мадемуазель де Куаньи отравилась, а госпожа де Сент-Эньян закололась. Если скорбь для них обеих и стала ядом, то ядом медленным. Девятое термидора раскрыло перед ними двери тюрьмы. Мадемуазель де Куаньи нашла для себя выход в замужестве, но многое заставляет меня думать, что ей было не очень-то по себе в таком прибежище. Что до госпожи де Сент-Эньян, то меланхолия, кроткая, ласковая, но несколько пугливая, и воспитание трех очаровательных детей заполнили годы ее жизни и вдовства в одиночестве замка Сент-Эньян. Примерно через год после тюремного заключения она прислала ко мне женщину за портретом: герцогиня дождалась конца траура по мужу и теперь отбирала у меня свое сокровище. Видеть меня она не пожелала. Я отдал драгоценную коробочку из фиолетового сафьяна и больше никогда ее не видел. Все это произошло очень пристойно, чисто, возвышенно. Я уважил волю хозяйки и навсегда сохраню пленительное воспоминание о ней, потому что ее уже нет.
Мне говорили, что она не расставалась с портретом даже в поездках и не позволила снять с него копию; разбила она его, умирая, или он затерялся в ящике секретера, забытого в старинном замке, где внуки прекрасной герцогини наверняка сочли его изображением какого-то их внучатого дяди,— не имеет значения: такова участь всех портретов. Они приводят в трепет лишь одно сердце, и когда оно перестает биться, их лучше уничтожать.

37.
О вечном остракизме
ПОСЛЕДНИЕ слова Черного доктора еще разносились по огромной комнате, а Стелло, воздев руки к небу, уже стенал:
— О, так все и должно было происходить!
— Мои истории, как все, что говорится людьми, правдивы только наполовину,— резко осадил его иронический рассказчик.
— Нет, так все и должно было происходить! — повторил Стелло.— Именно так, и подтверждение тому — все, что я выстрадал, слушая вас. Как мы чувствуем сходство портрета с оригиналом, даже когда тот неизвестен нам или мертв, так я чувствую правдивость ваших описаний. Интересы и страсти ваших героев вынуждали их говорить эти, а не иные слова. Короче, из трех возможных форм власти одна боится нас, другая презирает за бесполезность, третья ненавидит и нивелирует за аристократизм и превосходство. Неужели мы вечные илоты общества?
— Илоты вы или боги,— отозвался доктор,— но масса, равно как любая ее частица, нося вас на руках, глядит на вас искоса, время от времени швыряет наземь и топчет ногами. Она — плохая мать.
Вечная слава человеку из Афин!.. О, почему имя его неизвестно? Почему великолепный аноним, сотворивший Венеру Милосскую, не оставил половину своей глыбы мрамора для его статуи? Почему его имя, несомненно грубое, не начертано золотыми буквами на титуле «Знаменитых мужей» Плутарха? Слава человеку из
Афин!.. Я всегда буду чтить его и рассматривать как вечный тип, как блистательного представителя народа во все века и во всех странах. Я буду думать о нем всякий раз, когда увижу, как люди собираются вместе, чтобы судить о ком или о чем-нибудь; или когда они сходятся поговорить о знаменитом деянии или творении; или когда они просто произносят прославленное имя с непередаваемым выражением, с каким его обычно произносит масса,— с выражением обиды, отчужденности, зависти и вражды. Кажется, будто это имя выталкивается из уст взрывом против воли говорящего, принужденного уступить колдовскому заклятию или иной тайной силе, которая вырывает у него из глотки докучные слоги. При звуках такого имени рот искажается гримасой, губы капризно кривятся, не то складываясь в презрительную улыбку, не то поджимаясь в глубоком и серьезном раздумье. И счастье еще, если при такой внутренней борьбе имя не искалечат и не сопроводят грубым и обидным эпитетом! Не так ли, отведав за компанию горького напитка, мы если уж не отплевываемся, то, во всяком случае, отдуваемся и морщимся от отвращения?
О масса, безымянная масса, ты от природы ненавистница имени! Подумай, что ты испытываешь, сходясь, к примеру, в театре. В основе твоих чувств лежит тайное желание провала и боязнь успеха. Ты стекаешься на спектакль как бы против воли, тебе не хочется, чтобы тебя чаровали. Поэтому приходится укрощать тебя с помощью переводчика — актера. Только тогда ты смиряешься, да и то не без ворчания, не без долгих невысказанных, но упрямых оговорок. Объявить пьесу удачей поэта — значит для каждого поставить чужое имя выше собственного, признать превосходство автора, а это оскорбительно. И никогда — утверждаю это! — ты не сделала бы такого признания, о гордая толпа, если бы не была в то же время уверена — спасительное утешение! — что совершаешь покровительственный жест. Твое положение судьи, ценителя, пригоршнями швыряющего золото, несколько облегчает тебе то чудовищное усилие,/ которое ты делаешь над собой, когда аплодисментами свидетельствуешь чье-то превосходство. Там же, где ты не получаешь такой скрытой компенсации, ты не успеваешь увенчать славой, как уже находишь ее чрезмерной, начинаешь подкапываться под нее и умалять ее, пока тот, кто вознесен тобой, не упадет до твоего уровня.
Пока ты существуешь, тобой всегда будет двигать неизбывная потребность в вечном остракизме.
Слава человеку из Афин!.. Ах боже мой, ну почему я не знаю, как его звали? Его, кто с бессмертной наивностью выразил врожденный инстинкт толпы: «За что ты его изгоняешь?» — «Мне надоело слушать, как его хвалят».
38.
Небо Гомера
— Илоты вы или боги,— повторил Черный доктор,— НО ПОМНИТСЯ ли вам, что некий Платон назвал поэтов «подражателями подобиям» и изгнал их из своей республики? Правда, он именовал их еще «божественными». Они устранены у него от дел, и он мог бы поклоняться им, но затрудняется сделать — и не делает — такой шаг и неспособен примирить поклонение с изгнанием, что показывает, до какой мелочности и несправедливости опускается суровый и строгий мыслитель, пытаясь все подогнать под одно общее правило. Платон от каждого требует полезности, но внезапно встречает на своем пути бесполезных гениев вроде Гомера и не знает, что с ними делать. Люди искусства стесняют его: он прилагает к ним свою мерку, а они неизмеримы, и это приводит его в отчаяние. Он сводит всех поэтов, живописцев, ваятелей, музыкантов в разряд подражателей; объявляет всякое искусство детской забавой; утверждает, что оно обращается к самой слабой части души, которую он называет боязливой за отзывчивость к человеческим страданиям; уверяет, что искусство неразумно, малодушно, робко, противно рассудку; что, силясь угодить темной толпе, поэты стремятся изображать страстные характеры, которые легче воспроизводить в силу их многообразия; что если их не осудить, они развратят самых глубоких мудрецов и по их вине править в государстве станут не закон и разум, а наслаждение и скорбь. Он добавляет, что, прояви Гомер способность поучать и совершенствовать людей вместо того, чтобы оставаться бесполезным певцом, бессильным даже — уточняет он с античной дотошностью — отвратить своего друга Креофила от чревоугодия, ему не пришлось бы босым ходить просить милостыню — его бы уважали, чтили и холили, как Протагора абдерского и Продика кеосского, мудрых философов, всюду встречавших триумфальный прием.