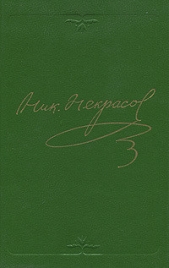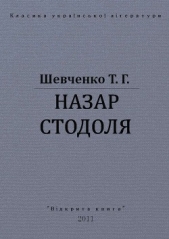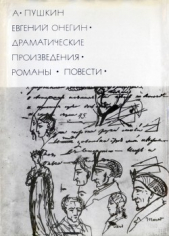Драматические произведения. Повести.
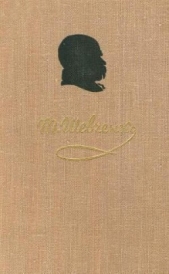
Драматические произведения. Повести. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пока то да се, глядь, а дочке уже пошел десятый годочек, а она, бедная, и грамоты не знает. Да и где узнать ее. Отцу некогда, денщик безграмотный, а деревенские мальчишки выучили ее в бабки играть.
Он, бедняк, думал, приедет в Оренбургский край, поселится где-нибудь в одном месте и займется воспитанием дочери. Не тут-то было! Не успел он осмотреться на новом месте, как его командировали в одно из степных укреплений! Беда, да и только!
Делать нечего, пошел он и в степное укрепление. Кто не видал этих степных укреплений, тому советую прилежно молиться богу, чтобы и не видать их никогда. Кроме отчуждения ото всего, что хоть маленький имеет намек на образование, теснота и лишения всевозможные, а о нравах и говорить нечего.
Так вот в такое-то гнездо попал мой бедный прапорщик со своею уже двенадцатилетнею дочерью. На другой же день она прослыла в укреплении кантонистом в юбке {176}.
Она действительно была девочка красивая, умная и бойкая, хоть и мальчику ее лет, так впору. На горе он привез с собою еще в качестве няньки какую-то старушонку, безобразную и донельзя распутную. Так что когда они, бывало, подгуляют вдвоем с нянькою, то Маша убежит в женатые казармы, да там и ночует. Бедное дитя! Ее какой-то солдат и грамоте выучил.
Так прошло два года, роты сменились, Маша выросла и удивительно похорошела, и больше ничего. И то правда, главное есть, а об остальном — кому какое дело?
Возвратясь к своему батальону, отец хотел было приняться за свою Машу, да Маша уже не та: ей уже пятнадцатый год.
— Ну, что ж, — рассуждает невзыскательный отец, — за писаря и так сойдет.
А пока он так рассуждал, Маша росла, росла и выросла красавица на диво: не только что за писаря, — хоть и за генерала, так не стыдно.
Какой-то чиновник, не помню, по питейной, не то по. таможенной части, только не военный — об этом тогда еще и в городе говорили, — так какой-то гражданский чиновник, да чуть ли не из пограничной комиссии, приехал в город по делам службы, увидел где-то Машу и влюбился. Узнал, что, и как, и чья, и где живет, да, не рассуждая много, сунул пьяной няньке пять целковых, — она ему и спроворила.
Он уехал по делам службы в Петербург и Машу взял с собою, а там ее и бросил, потому что ему нужно было опять куда-то ехать.
Такими-то путями она очутилася в Петербурге. А как очутилася в Песках {177}, тут уже история другая. Но эту другую историю я готов хоть и не рассказывать, потому что в ней, кроме отвратительного, ничего нет. Как бы там ни было, а Маша, хоть и едва грамотная, а выдержала свою роль лучше всякого синего чулка.
Так вот кто такая вторая супруга моего удалого ротмистра.
Теперь мы ее уже будем звать Марьей Федоровной. На другой же или на третий день после свадьбы Марья Федоровна настояла на том, чтобы сейчас же ехать в деревню, и она на это имела основательные причины. В деревне кто ее узнает, какого она поля ягода, а живя в городе, да еще и в столице, придется поддерживать мужнины знакомства; они у него, быть может, все графы да князья. Бог его знает, он человек, богатый, все случиться может, а она, как говорится, и ногой ступить не умеет. Хорошо еще, что солдат грамоте выучил, а не то и того бы не знала.
Так или почти так рассуждала Марья Федоровна, и рассуждала, правду сказать, довольно верно; по всему видно, что она имела ум практический, или положительный. Не прошло и месяца, как она вступила в роль провинциальной барыни-хозяйки, как у нее все задвигалось и заходило.
Ротмистр мой только смотрит да глазами похлопывает. А как она приняла у себя с визитом мелкопоместных соседок, так только ахнули. Но кто прежде всех в доме на себе почувствовал ее влияние, так это сам ротмистр. Он до того сузился перед нею, что стал больше походить на лакея, нежели на барина.
На детей она сначала не обращала никакого внимания, пока не почувствовала себя беременною, — а с той поры и они поступили в ее ведомство, и они, бедные, стали чувствовать какую-то тяжесть. Девочка еще кое-как резвилась, а мальчик, бедный, тот совсем затих. Они как говорили, весь в отца пошел; и отец тоже хорохорился до первой острастки, а как на него прикрикнули хорошенько, так он — тише воды, ниже травы.
Во избежание же следующих острасток, которые он во множестве предвидел впереди, переселился он во флигель, неподалеку от дома, и зажил настоящим анахоретом {178}. Сначала приходил он в дом обедать, поужинать или просто спросить о здоровье дражайшей половины, но впоследствии совсем оставил свои визиты. Даже у человека, который приносил ему обед, он не спрашивал о здоровье Марьи Федоровны. Детей своих он видел только по праздникам и то с позволения жены. Впрочем, сильного стеснения в быту своем он не чувствовал, или, лучше сказать, не мог чувствовать. Большую часть дня он проводил или на псарне, или на конюшне, или же упражнялся в благородном занятии — стрелянием из пистолета в цель, которую устроил у себя в кабинете на случай дурной погоды. Надо заметить, что в этой комнате, кроме стула и цели, ничего не было, даже трубок и книжки, развернутой на четырнадцатой странице, и я не знаю, почему он называл ее кабинетом.
После первых припадков беременности, как я уже сказал, она начала обращать внимание на мужниных детей. Внимание это выразилося так: она каждый день исправно начала посещать детскую, что прежде делала в продолжение месяца один раз; потом начала учащать свои визиты; потом приходила смотреть, как кормят и чем кормят детей, как спать кладут, как поутру их умывают, как одевают. Большего попечения родная мать своим детям оказывать не может, а странно, дети ее не любили и даже боялися. Бывало, если только заплачет которое из них, то няньке стоит только сказать: «Мама идет», — и дитя в одно мгновение переставало плакать. Ту же тактику употребляли няньки, когда дети слишком разрезвятся, хотя это случалося весьма редко. Они смотрели настоящими сиротками, особенно мальчик. И девочка, сначала такая резвая, румяная, заметно побледнела и присмирела с той поры, как за нею начали так заботливо ухаживать.
Есть люди, которых все любит и все к ним ласкается; даже, говорят, их и бешеные собаки не кусают. К числу таких людей принадлежал и знаменитый Вальтер Скотт. А есть опять люди, которые ко всем ласкаются, а их или ненавидят, или боятся и ненавидят. К числу таких людей принадлежит и моя Марья Федоровна.
А может быть, и независимо от этой антипатии [есть] еще что-нибудь такое, почему мачеха детям кажется ненавистною.
Что бы там ни было, только дети под непосредственным наблюдением Марьи Федоровны бледнели и худели. А когда она встречалася со своим благоверным ротмистром, то только и речей было, что про детей, так что он уже начал ее просить, чтобы она поберегла себя, что дети, даст бог, и без нее вырастут.
Лето проходило, близилася осень. Дети давно уже ходили, а летом их не выпускали в сад побегать, бояся простуды: пруд, дескать, близко, сыро. Настала осень, и детей стали посылать в сад гулять, потому что теперь воздух холоден и пруд не может иметь влияния никакого, по физике Марьи Федоровны. А по физике ротмистра — совершенно все равно, лишь бы его борзые не хворали, потому что скоро начнется травля зайцев, а до детей ему какое дело? На то у них есть мать.
А между тем в селе показалася оспа. Нежному родителю и в голову никогда не приходило, что дети его из такой же плоти и крови, как и чужие дети, и что их так же само может постигнуть эта язва, как и чужих детей, кому не привита оспа. В Петербурге об этом не подумали, а в деревне и вовсе позабыли, и вот дети в оспе.
Марья Федоровна с горя сама даже слегла в постель и велела заколотить все окна и двери и окуривать покои уксусом; у ней у самой заботливый родитель позабыл привить оспу, а сама она, бедная, теперь только вспомнила. Вспомнила и захворала, а к тому еще и на сносе.
Дом был окружен, как зачумленный, куревом; детей перенесли к отцу во флигель. Бедный ротмистр чуть с ума не сошел. Наконец, все кончилось благополучно. Только мальчик ослеп, потому что у него и прежде глаза краснели и гноились. А девочка ничего, выходилась, хоть и попорченною немного. «Но это ничего, — говорила нянька шепотом, — зарастет; слава богу, что сама барыня захворали, а то и девочка бы осталася без очей, как вот барчонок».