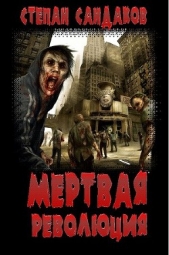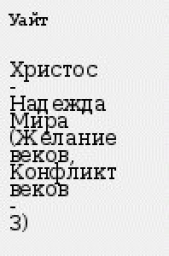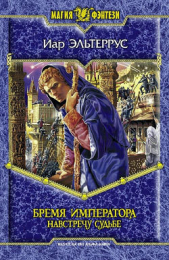Эти настоящие парни
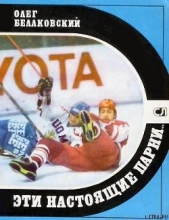
Эти настоящие парни читать книгу онлайн
Олег Маркович Белаковский – долгие годы работал спортивным врачом в командах ЦСКА, сборной СССР. Он сопровождал наши сборные команды по футболу и хоккею на многие международные соревнования – чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры. Его книга – о спортивном мужестве, о верности спорту.
Книга иллюстрирована фотографиями из архива автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что было наиболее характерным для стиля и духа академии? Прежде всего высокий научный уровень пре подавания и клинической практики. Высокий уровень профессиональной подготовки был неотъемлем от общей высокой и глубокой культуры.
Этот высокий уровень преподавания, широкий кругозор в условиях строгой, истинно военной дисциплины с ее четко поставленной организацией учебно-воспитательной работы делали нашу академию и в наших собственных глазах, и в глазах студентов других вузов весьма авторитетным учреждением. Здесь не было, да и не могло быть места той безнаказанности, которая, к сожалению, присуща в наше время некоторым средним и высшим учебным заведениям и которая иногда пагубно сказывается на той части молодежи, которая, «и мыслям и делам внимая равнодушно», остается невосприимчивой ни к слову, ни к примеру.
И все-таки это был вуз. Военный, но все-таки вуз. И были не только строгие и многомудрые академики и профессора, были просто люди с их слабостями, иногда странностями, вкусами и привычками. И были их подопечные – слушатели. Собственно, те же студенты, которым, как и всем студентам в мире, ничто не чуждо. И рядом с высокими традициями передавались из поколения в поколение шутки, анекдоты, курьезные случаи из жизни академии.
Известный патологоанатом Самуил Самуилович Вайль. был в одинаковой мере человеком в высшей степени эрудированным и в высшей степени рассеянным. Именно это послужило причиной следующего случая.
Однажды профессору положили два рентгеновских снимка под одной и той же фамилией.
Внимательно просмотрев первый и едва взглянув на второй, Вайль не без сарказма заметил:
– Впервые вижу, чтобы у одного и того же человека было два абсолютно разных желудка. Передайте, пожалуйста, сестре, чтобы она в следующий раз более внимательно подписывала снимки.
Встал. Надел пальто и отправился в Мариинку кон сультировать балетную труппу. Причем не как врач, а как тончайший знаток балета…
Во время увольнения мы тоже бегали в Мариинку. Если, конечно, удавалось получить увольнение. Дело в том, что если ты проваливал зачет или экзамен, то об увольнении мог только мечтать. А сдать зачет было не так-то просто. Особенно, если ты сдавал зачет по анатомии профессорам Тонкову или Долго-Сабурову.
Два моих приятеля являлись к Долго-Сабурову тринадцать раз. И тринадцать раз он их «заворачивал». Ребята вызубрили «кости» наизусть и пошли в четырнадцатый. Ответили вроде бы нормально. А Долго-Сабуров, подвинув к себе обе зачетки и чуть заикаясь, произносит:
– Ну л-лладно, ч-ччетверка. Р-рразумеется, на д-ддвоих…
Вчерашние мальчишки, мы не понимали или понимали чисто умозрительно, что нас заставляли пересдавать по тринадцать раз зачеты потому, что там, на фронте, под обстрелом и бомбежками у нас уже не останется времени на пересдачу. Уже некогда будет раскрыть учебник или перелистать лекции. Надо будет принимать одно-единственное решение. И это решение принять должен не Вайль, не Тонкое или Долго-Сабуров, а ты. И если ты все-таки находил такое решение, то только потому, что когда-то по тринадцать раз ходил пересдавать военно-полевую хирургию или анатомию. Вот почему сегодня мы, бывшие выпускники академии, уже немолодые офицеры, не можем не повторить вслед за поэтом: «Наставникам, хранившим юность нашу, всем честию, и мертвым и живым, подъяв к устам признательную чашу, не помня зла, за благо, воздадим!»
В спокойные дни мира проходит немало времени, прежде чем человек, став взрослым, осознает это благо. У нас, мальчишек 30-х, этого времени просто не было.
Юность оборвалась внезапно. Она оборвалась с первым же разрывом бомб.
…Вечерами патрулируем в городе. Маршрут обычно один и тот же: от академии – к Финляндскому вокзалу. Дальше – по Лесной до стадиона «Красная заря», на котором мы с Юрой Ряжкиным, нашим полузащитником, как будто совсем недавно играли в футбол и хоккей за сестрорецкую команду. Сейчас он идет рядом со мной в той же форме «академика», что и я: вместе оканчивали школу, вместе подали заявление в академию и сейчас, шагая в ногу, крепко сжимаем ремни висящих за спиной карабинов.
Молчим. Думаем об одном и том же. Думаем о том, о чем думают в академии все: когда начнется отправка на фронт. Ожидание невмоготу. Но вместо разговоров о фронте, все чаще поговаривают об эвакуации. Неужели вместо запада отправимся на восток? И это сейчас, когда фронт с каждым днем приближается к городу. В академические клиники поступают раненые. Есть много тяжелых.
Нет, это просто немыслимо.
– С академией уедут не все, – словно читая в моем сердце, произносит Ряжкин. – Большинство ребят оставят здесь.
– Думаешь?
– Ты что, не понимаешь, что сейчас главное – это война. Кому учить и кого учить, если…
Он перекидывает на плече карабин и до посинения сжимает пальцы.
– А мы? Что будет с нами?
Он очень изменился за эти два-три месяца, наш город, наш Ленинград. Стал сдержанным, суровым, какимто внутренне напряженным. Все отдавалось острой болью и чувством горечи: и эти витрины магазинов, заложенные мешками с песком, и маскировка памятников, и эти крест-накрест оклеенные полосками пожелтевших газет окна – кресты, перечеркнувшие уют мирной жизни, и длинные очереди у магазинов, и сутолока переполненных вокзалов. И эти ежедневные тревоги с ревом сирен, с мечущимися по небу прожекторами…
Вчера откапывали завалы разнесенного на куски дома. Страшно вспомнить. Страшно вспомнить это тихое тиканье женских часиков, отсчитывавших жизнь после смерти. Нашу жизнь после чьей-то смерти. Всю войну будет преследовать меня это тихое тиканье, заглушая взрывы и стоны…
Восемь вечера. Город погружается в темноту. Темные окна как черные впадины пустых глазниц. Гулкие шаги патрулей. Гулкий стук наших сапог.
Мы подходим к Финляндскому вокзалу. Вокзалы военного времени – пожалуй, одно из самых тягостных зрелищ. Я повидал их множество. Тыловых, прифронтовых, фронтовых. Но первым был для меня Финляндский вокзал в Ленинграде. Толпы женщин с плачущими детьми, старики с какими-то потускневшими, серыми лицами, мешки, рюкзаки, чемоданы – все колышется огромной густой массой то в одну, то в другую сторону или, вдруг забывая о себе, о дороге, о треволнениях, замирает у репродукторов. Кольцо вокруг города сжимается все туже. 8 сентября немцы перережут железные дороги, кольцо блокады сомкнётся. Остаются считанные дни. Люди не знают, не окажется ли их поезд последним, и не последним ли был поезд, который ушел накануне. Ленинград в сентябрьские дни сорок первого года – это уже по существу фронт. И все-таки, услышав позывные, человек опускал на землю чемодан, снимал с плеч ребенка и останавливался. Он слушал сводку с фронта и до последней секунды, даже здесь, на вокзале, жил тем, чем жил в эти минуты его город.
…Его выбросил нам навстречу все тот же людской поток. В первое мгновение мне показалось, что я обознался. Но раздавшееся почти в ту же минуту такое знакомое, такое радостное «Алик!» заставило меня рвануться к нему, забыв обо всем на свете, напрочь забыв, где и кто я.
– Севка, черт, откуда?!
Я жрал Бобра ненасытными глазами. Осунувшийся, поблекший, в поношенном демисезонном пальто, он показался мне каким-то погасшим. Пожалуй, единственным, что не изменилось в этом похудевшем и вытянувшемся парне, была его неизменная кепка.
Я ткнул его в плечо. Он ответил мне тем же. Ни он, ни я ничего и никого не замечали вокруг. Всего несколько месяцев прошло со дня последней нашей встречи в Сестрорецке. Но эти месяцы отбросили прошлое на сотни лет назад, и мы с трудом представляли, что мальчишки на «бочаге», на стадионах Сестрорецка и Ленинграда – это мы. И сейчас, стоя напротив друг друга, внутри людского водоворота, мы с Бобром жадно искали один в другом того Альку и того же Севку, которых, казалось, ничто и никогда не могло разлучить.
– Ты откуда?
Он как-то неопределенно мотнул головой и вместо ответа легонько подтолкнул меня.
– Давай выберемся отсюда. Мы стали пробираться к выходу.