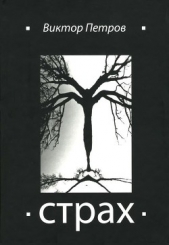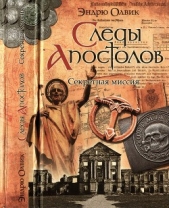Тайны советской кухни
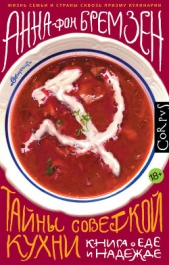
Тайны советской кухни читать книгу онлайн
Автор популярных в США книг о еде Анна фон Бремзен родилась в Москве. В школьном возрасте уехала из СССР вместе с матерью. Ее «Тайны советской кухни» посвящены кулинарным вопросам лишь отчасти. Прежде всего это история: история собственной жизни, история жизни семьи, история страны, воспоминания о любимом странной любовью и ненавидимом, но не оставляющем прошлом — сквозь призму кулинарной истории. Как пировали в начале XX века, как голодали в войну, как мечтали о Другой жизни за страницами «Книги о вкусной и здоровой пище», как тосковали по советской еде после отъезда. К каждой из десяти глав-десятилетий прилагается соответствующий времени рецепт.
В книге встречается ненормативная лексику. 18+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как знают в России все дети, взрослые и собаки, славяне-язычники стали христианами из-за выпивки. В конце первого тысячелетия нашей эры великий князь киевский Владимир решил ввести единобожие. К нему приходили посланцы и расхваливали каждый свою веру. Из геополитических соображений разумно было бы выбрать ислам. Но он запрещал алкоголь! Тут Владимир произнес свою бессмертную фразу: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти». И в 988 году н. э. принял православие византийского образца.
Возможно, это легенда, но она обозначает дату, с которой начинается путь нашей Родины в вытрезвитель.
Изначально на Руси пили медовуху, пиво и квас. Серьезные проблемы с зеленым змием возникли примерно в конце четырнадцатого века, когда на сцену вышли зерновые дистилляты. Их называли по-разному — хлебное вино, зеленое вино, жженое вино, — а позже распространилось название «водка».
Название-то уменьшительное, а по силе воздействия — неутихающее весеннее половодье.
Цари быстро обратили внимание на доходный потенциал водки. К середине семнадцатого столетия государство держало фактическую монополию на винокурение и торговлю, а в течение почти всего девятнадцатого века казна на треть наполнялась деньгами от торговли спиртным. Но тут началась Первая мировая война. Царь-неудачник Николай II, памятуя об унизительном разгроме в русско-японской войне десятью годами ранее, который объясняли плачевным состоянием армии, заставил империю завязать с выпивкой. Неразумный шаг. Сухой закон подточил российскую казну и вызвал эпидемию самогоноварения, которая дестабилизировала рынок зерна, имевший для России важнейшее значение. Нехватка хлеба привела к голоду, а голод — к революции. Может, минеральному секретарю на закате своей империи стоило внимательнее отнестись к истории?
Однако большевики тоже не поощряли потребление водки и поначалу сохранили сухой закон. Ленин, в ссылке порой позволявший себе белого вина или пильзенского пива, настаивал, что русский пролетариат «не нуждается в опьянении». Однако пролетариат считал иначе. Лишенный водки, он упивался до беспамятства самогоном, которым его снабжало крестьянство, предпочитавшее гнать из драгоценного зерна незаконный дистиллят, но не отдавать его красным реквизиторам. Самогонный паводок прорвал плотину. К середине двадцатых снова была введена полная государственная монополия на алкоголь.
А кто был самым горячим сторонником монополии? Некто Иосиф Виссарионович Сталин. «Социализм в белых перчатках не построишь», — дразнил он робких товарищей на партийном съезде в 1925 году. В отсутствии других источников капитала торговля спиртным могла и временно должна была стать дойной коровой. «Временные меры» длились и длились, финансируя львиную долю бурной сталинской индустриализации, а позже — обороны.
Грянула Вторая мировая война. Россия продолжала пить. Классическим элементом военного фольклора стали «наркомовские сто грамм» — водочный паек для бойцов, прописанный ленинградским спасителем дедушки Наума, незадачливым наркомом обороны Климом Ворошиловым. В тылу водка тоже текла рекой. Несмотря на сильное подорожание, в 1944-м и 1945-м она обеспечивала шестую часть поступлений в казну — самый большой источник дохода осажденной империи.
В брежневское время наша Родина находилась во власти коллективной белой горячки. Или, если использовать наш богатый жаргон, Россия была пьяна:
как сапожник
в стельку
в дугу
вдребезги
и ходила:
косая
на бровях
на рогах
под банкой.
К этому времени были давно установлены, систематизированы и обросли бесконечным количеством мифов национальные питейные ритуалы. Сакраментальное число 3,62 было талисманом для народной души. Столько стоила поллитра, пребывавшая в семидесятые в блеске славы. Так же священен стал граненый стакан. Возник обычай скинуться на троих. Любое приобретение — от нового трактора до кандидатской степени — полагалось вспрыснуть. А за любую услугу, будь то починка унитаза или операция на сердце, следовало поставить пузырь.
Водка мерцала в стакане как поэзия России, ее миф, ее метафизическая радость. Культ, религия, символ. Водка была жидким культурным мерилом, сорокаградусным способом бегства от социалистической рутины. И, безусловно, большим национальным бедствием. Не менее важным было то, что до — и особенно во время — горбачевского антиалкогольного натиска поллитра служила единицей бартера и в качестве валюты была куда устойчивей рубля, который все равно пропивался. Водка служила и лекарством — от обычной простуды (подогретая с медом), гипертонии (настоянная на перегородках грецкого ореха) и любых других недугов. На дне стакана с водкой русские находили Истину.
Эту истину отнимал у них Михаил Сергеевич Горбачев. К чести минерального секретаря, статистики впоследствии установили, что за время кампании за трезвость средняя продолжительность жизни мужчины увеличилась. А потом стремительно упала. Между 1989-м и 1994-м — это уже было пропитанное водкой ельцинское правление — смертность среди мужчин 35–44 лет выросла на 74 процента. Но, как сказал Маяковский, «лучше уж от водки умереть, чем от скуки». А скука — это… тиски трезвости. В исследовательском институте, где папа работал/выпивал до того, как пришел в лабораторию при мавзолее, у него был собутыльник, морщинистый старый плотник по имени Дмитрий Федорович. После первой рюмки плотник Дмитрий всегда рассказывал про своего брата. Как этот брат помирал от болезни почек и как Дмитрий Федорович пронес в больницу «лекарство»: четвертинку и соленый огурец.
Больной выпил и моментально умер.
— Только подумать — если б я вовремя не успел, он бы помер трезвым, — всхлипывал плотник, роняя слезы в граненый стакан. Собутыльники тоже плакали.
Умереть трезвым. Можно ли представить худшую смерть для русского мужика?
Как у всех русских семей, у нашей были свои сложные отношения с зеленым змием, хотя местному каноническому образу — трясущиеся руки, прогулы на работе, полное расстройство сознания, ранняя смерть — соответствовал только мой дядя Сашка. Как алкоголик (а также алкаш или алконавт) он внушал благоговейный страх даже самым пьющим представителям московской интеллигенции. Таким статусом он обязан прежде всего несчастному случаю, который произошел, когда мама была беременна мной. Однажды отец, который неизвестно где пропадал, позвонил маме из Склифа.
«Мы не хотели волновать тебя в твоем положении», — промямлил он.
В Склифе мама обнаружила своего двадцатидвухлетнего младшего братика: без сознания, все кости переломаны, из горла торчит трубка. Стены и потолок заляпаны кровью. У нее чуть не случился выкидыш.
За несколько дней до этого Сашка, пьяный в стельку, пришел под дверь родительской арбатской квартиры на пятом этаже. Но своих ключей не нашел и попытался повторить героический путь поклонников моей тети Юли, представителей алкогольной богемы. Юля была роковой женщиной. В попытках завоевать ее сердце мужчины залезали к ней на балкон из окна подъезда — цирковой номер даже для трезвого. Сашка не знал, что ограждение балкона расшатано, и полез из окна.
Дядя вместе с ограждением пролетел пять этажей и упал на асфальт. Сашка приземлился у ног своей мамы, которая гуляла с внучкой Машей. Когда в больнице бабушке Лизе отдали его залитую кровью одежду, в кармане обнаружился ключ.
Через шесть страшных месяцев Сашка вышел из Склифа инвалидом: одна нога короче другой, рука наполовину парализована, речь нарушена. Но тяга к выпивке не ослабла.
Когда мы переехали на Арбат, мертвецки пьяного Сашку часто притаскивали домой собутыльники или жалостливые прохожие. Или мама с папой забирали его из ближайшего вытрезвителя. Он ночевал у нас в коридоре, воняя так отчаянно, что собака Бидди убегала с воем. А по утрам я садилась возле его неподвижного тела, вытирала мокрым платком кровь у него из-под носа и дожидалась, когда он очнется и научит меня очередной песенке про алкоголиков. Их язык был богатым и образным. Помню, в одной приводилась последовательность напитков в меню пьяницы: