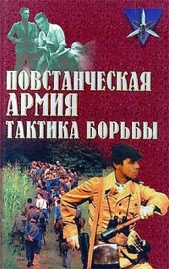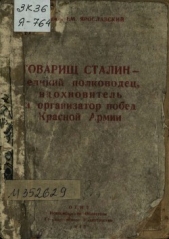Сталин и писатели Книга четвертая
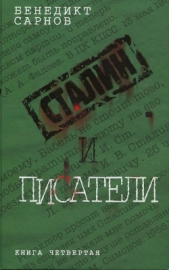
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рассмотреть это «Заявление» Фадеева было поручено Агитпропу ЦК, где оно и было рассмотрено. Месяц спустя последовало решение:
► ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
АГИТПРОПА ЦК Г.М. МАЛЕНКОВУ
И М.А. СУСЛОВУ В СВЯЗИ
С ПИСЬМОМ АА. ФАДЕЕВА В ЦК ВКП(Б)
4 октября 1949 г.
Партийной организацией Союза советских писателей Дайреджиев и Альтман исключены из рядов ВКП(б).
Согласно Уставу Союза советских писателей (раздел III, пункт 5), исключение из членов Союза производится в случае «противоречия деятельности члена Союза интересам социалистического строительства и задачам Союза советских писателей», а также «совершения поступков антисоветского и антиобщественного порядка».
Союз советских писателей может решить вопрос о Дайреджиеве и Альтмане в соответствии с Уставом Союза.
Выносить постановление ЦК ВКП(б) по вопросу об исключении Дайреджиева и Альтмана из членов Союза писателей нецелесообразно.
В. Кружков
4/Х/49 г.
Выделенная в этом тексте фраза была подчеркнута М.А. Сусловым. В конце документа на полях слева от последних двух абзацев — резолюция: «За. М. Суслов».
Итак, высшая партийная инстанция не пожелала взять решение этого вопроса на себя, оставив его на усмотрение руководства писательского Союза. Чем упомянутое руководство — в лице того же Фадеева — не преминуло воспользоваться.
Обращаясь в высшую партийную инстанцию, Фадеев добивался исключения — не только из партии, но и из Союза писателей — обоих фигурантов этого дела. Но я, цитируя его «заявление» (лучше сказать — донос), выбрал из него только то, что относилось к одному из них — к И. Альтману.
Сделал я это отчасти потому, что, — как читатель уже знает — мне выпало быть свидетелем той душераздирающей сцены, которую так выразительно описал в своих воспоминаниях Леонид Зорин.
Но была еще одна, не менее, а, пожалуй, даже более важная причина, побудившая меня сделать акцент на той части этого документа, которая относилась именно к Альтману.
► В книге Борщаговского «Записки баловня судьбы» подробно описано, как был сломан и фактически погублен Иоганн Альтман... Особый отблеск его трагедии придавало то, что все вокруг знали, что он с незапамятных времен близкий друг Александра Фадеева.
Как друга в 1947 году Фадеев настойчиво просил Иоганна Альтмана стать завлитом театра Госет, руководимого Михоэлсом. Фадеев просил долго, а Альтман отказывался по простой причине — он не знал идиша и плохо представлял, как ему выполнять свои обязанности, не понимая языка, на котором играют актеры. Однако и Михоэлсу очень нужна была поддержка со стороны известного члена партии, времена наступали хмурые.
«И тогда, — писал Борщаговский, — Михоэлс обратился за помощью к своему другу Саше Фадееву. Альтман упорно держался и против уговоров Фадеева, пока тот не прибегнул к средству, перед которым Иоганн бывал бессилен: «Пойди к ним на год! На один год! Надо помочь Михоэлсу, ему нужен советчик и комиссар: прими это, наконец, как партийное поручение!»
И Альтман согласился, испытывая неловкость перед нами, коллегами: завлит, не знающий языка..
Когда Софронов кидался на Альтмана на собрании и задавал въедливые вопросы, Альтман был уверен, что сейчас встанет его старый друг Саша Фадеев и скажет, что это он настоял, чтобы тот пошел в Госет.
Но Фадеев не встал и не сказал, почему Иоганн Альтман, не зная языка, оказался завлитом театра...
Альтман находился на свободе до 5 марта 1953 года, он был арестован, единственный из театральных критиков, в день смерти Сталина. Освободили его через несколько месяцев. Очень скоро он умер от разрыва аорты. Говорят, что перед смертью прохрипел: «Убили».
Зачем понадобилось Фадееву добивать этого, уже сломленного, раздавленного человека, бывшего к тому же его близким другом? Ведь злодеем, а тем более садистом он не был...
Может быть, боялся, что и его тоже притянут к ответу, если вскроется, что это он направил «безродного космополита» Альтмана завлитом в Еврейский театр?
Да, может быть, и это тоже.
Но главным, я думаю, тут было другое.
В начале 60-х в Малеевке - писательском Доме творчества — я познакомился с Иосифом Ильичем Юзовским и довольно близко с ним сошелся.
Тогда ходила по рукам еще неопубликованная повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и мы оба —одновременно — ее прочли. На мой вопрос, какое впечатление произвела на него эта вещь, Юзовский сказал, что очень сильное. И вдруг добавил:
— Но ведь это нельзя!
— Что нельзя? — удивился я.
— Она против социализма, — объяснил он. — А это нельзя.
Сперва я даже не понял как — нельзя? Почему нельзя? Нельзя, потому что — не пропустят, не напечатают?
Оказалось, однако, что Юзовский имел в виду совсем другое. Он искренне полагал, что писать вещи, направленные против социализма, нельзя по более важным, отнюдь не внешним причинам. Что тут должен действовать гораздо более мощный, сугубо внутренний запрет.
Поясняя эту свою мысль, он рассказал мне такую историю.
В 1927 году, когда Маяковский опубликовал свою поэму «Хорошо!», он, Юзовский, жил в Ростове. Был он тогда молодой (очень молодой) критик, но местная газета его статьи охотно печатала. Никакого культа Маяковского тогда еще не было и в помине, и без особых сложностей он опубликовал в той же ростовской газете очень резкую статью о только что появившейся поэме Маяковского «Хорошо!». Статья была просто разгромная, даже издевательская. Достаточно сказать, что называлась она — «Картонная поэма». (Во время антикосмополитической кампании эту давнюю его — двадцатилетней давности — статейку Юзовскому, конечно, припомнили. Она стала едва ли не главным пунктом вменявшихся ему в вину преступлений: пигмей поднял руку на гиганта!)
Маяковский, приехав в Ростов, разыскал автора этой глумливой статьи, зазвал его в какой-то шалман, что-то там такое заказал и сурово потребовал объяснений.
Юзовский хоть и был тогда очень молод и, естественно, глядел на Маяковского снизу вверх, отрекаться от своей статьи не стал.
Сбивчиво, но очень взволнованно, убежденно он заговорил о том, какая страшная жизнь вокруг и как она непохожа на ту, какую изобразил Маяковский в своей поэме. Вчера, говорил он, стреляли в секретаря крайкома. В округе по лесам бродят вооруженные банды. На улицах города валяются трупы. Люди пухнут от голодухи. А у вас? «Сыры не засижены... Цены снижены...» Какие сыры? Где вы их видели, эти сыры? «Землю попашет, попишет стихи...» Где это, интересно знать, вы увидели этих ваших опереточных крестьян?!
Маяковский слушал, не перебивая. Долго и мрачно молчал. А потом сказал:
— Значит, так. Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма... Ну, а если нет... Если нет, чего стоит тогда весь этот наш спор, и эта поэма, и я, и вы, и вся наша жизнь...
Рассказав мне эту историю, Иосиф Ильич тут же вспомнил другую, похожую.
Однажды — в самом разгаре антикосмополитической кампании 49-го года — он шел по Якиманке. Вдруг видит — навстречу Фадеев. Увидев его, он перешел на другую сторону улицы. Фадеев тоже перешел. Остановился перед ним, загородив ему дорогу. Грозно спросил:
— Что это значит?
— Это значит, — ответил Юз, — что я не хотел ставить тебя в неловкое положение.
Они знали друг друга давно, еще с Ростова.
— Ладно, — сказал Фадеев. — Пошли.
Как некогда Маяковский, он затащил Юза в какой-то шалман. Сели за столик в углу. Фадеев заказал выпивку, какую-то нехитрую снедь.
Выпили.
— Ну? — сказал Фадеев. — Давай. Выкладывай, что у тебя накипело?