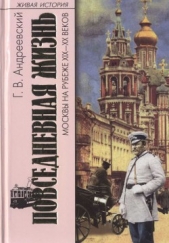Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху, 1920-1930 годы

Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху, 1920-1930 годы читать книгу онлайн
Под пером Г. В. Андреевского пестрая и многоликая Москва 1920–1930-х годов оживает, движется, захватывает воображение читателя своими неповторимыми красками, сюжетами и картинами, увлекая его по улицам и переулкам, магазинам и кинотеатрам, паркам и дворам, знакомя с жизнью поэтов, музыкантов, политиков, широко распахивая окно в неизвестное прошлое столицы. Уникальные и редкие фотографии из архивов и частных собраний богато иллюстрируют книгу. Достоинством этого исследования является то, что оно создано на основании воспоминаний, архивных материалов и сообщений прессы тех лет о таких редко замечаемых деталях, как, например, езда в трамваях, мытье в банях, обучение на рабфаках, торговля на рынках, жизнь в коммуналках, о праздниках и труде простых людей, о том, как они приспосабливались к условиям послереволюционного времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А что бы сказали критики, услышав эту песню с другими сомнительными и даже вредными словами, например, такими:
И это пелось в то время, когда в стране шла ожесточенная борьба с самогоноварением!
Борьбе с моральным разложением, проституцией, по мнению пролетарских критиков, мешала еще и «цыганщина». «Цыганщина» расслабляет — утверждали они. Прослушав как-то на концерте романс «Я вас люблю, вы мне поверьте, я буду вас любить до смерти», один из критиков съязвил: «Первые-то две строчки певица пела спокойно, а последнюю («Я буду вас любить до смерти») — с криком и надрывом, мол, смотрите, как я горяча, страстна, ваша пятерка не пропадет даром!»
Сторонников идейной музыки возмущало и то, что в магазине грампластинок «Коммунар» на Тверской покупатели часто спрашивают продавца о таких пластинках, как песенка «Ах ты, Коля-Николай», фокстроты «Эрика», «Две кошечки», «Завивайтесь, кудри», «Аллилуйя», «Мисс Эвелин».
Фокстроты, да и вообще танцы, которые танцевали парами, раздражали. Главным доводом критиков было то, что танцующие допускают возбуждающие прикосновения. К этим прикосновениям присоединяется к тому же и вызывающая, будящая нездоровые мысли, музыка. Из-за этой музыки и возбуждающих прикосновений танцы типа фокстрота следовало запретить. Запретить следовало и вальс. За что? А за то, что «состоит он из бессмысленных однообразно круговых движений, доводящих человека до головокружения». Признавая «танцульку» ярким проявлением старого быта, некоторые все же находили в танцах элементы физического воспитания и предлагали молодежи водить хороводы, плясать лезгинку, гопак, русского.
Раздражали строгих критиков своей безыдейностью и пластинки с записями «сценок». В одной из них рассказывалось про такой случай: толстая тетка лезла в трамвай у Сухаревой башни, но поместиться в вагон не смогла и встала на подножку. Кондуктор стал просить ее сойти с подножки, ругал, уговаривал, но ничего не помогало. Тетка с подножки сойти не желала. И лишь после того, как кондуктор обратился к ней по старорежимному вежливо: «Мадам, нравственно прошу вас сойти с трамвая», она сошла. А в сцене из оперетты Дунаевского «Ножи» критикам не нравилась фраза, которую произносил главный герой Павел Пирушкин: «Мы сами творцы полового вопроса!»
Все это было, по мнению критиков, чуждо пролетарскому искусству. Вот и получалось, пролетариат — одно, а пролетарское искусство — другое. Склонность пролетариев к спиртному, не всегда идейным частушкам не учитывалась. Нужно было создавать новую пролетарскую мораль, мораль передового класса, осуществившего революцию.
Пролетарские композиторы мечтали вместо дурацких песенок и сценок, которые раскупали москвичи, записать на пластинки революционные гимны и колхозный устав.
На эстраде (не пивной) претензии стали предъявляться не только к репертуару, но и к внешнему виду артиста, к его поведению. «Мособлрабис» исключил из профсоюза Кузьмина и Звольского за то, что они на работе под портретами вождей пролетариата повесили портрет Николая II. Когда певица Н. Д. Гранат явилась на концерт в клуб «Красный богатырь» одетая не по форме, а в бальном декольтированном платье, заведующий клубом позвонил в «Центропосредрабис» с просьбой принять к артистке соответствующие меры. Певице пришлось срочно переодеться. Влетело Ананьеву и Мезенцеву, посмевшим в одном из клубов спеть есенинское «Письмо к матери». Влетело также за антисемитизм исполнителю частушки:
Но хуже всех пришлось исполнителям цыганских романсов. Тем вообще запретили выступать. Потом, правда, сжалились и объявили: «В связи с тяжелым материальным положением исполнительниц цыганского жанра им временно разрешено выступать на концертах в рабочих клубах исключительно с этнографическим репертуаром». При этом «Рабис» поставил им условие, чтобы они «в возможно кратчайший срок изменили жанр и репертуар».
В 1930 году досталось и «Синей блузе». Специальная комиссия, проверившая ее деятельность, пришла к выводу, что ее коллектив не имеет связи с рабочим зрителем, в ней, то есть «в блузе», отсутствует «рабочая прослойка» и вообще она засорена «недостаточно квалифицированными актерами (что правда — то правда: «Синяя блуза» фактически была самодеятельностью) и классово чуждыми элементами». Комиссия указала также на то, что «во время гастролей в Германии ее участники посещали ночные кабачки, чем дискредитировали советское искусство перед лицом зарубежной рабочей общественности». Было принято решение очистить коллектив от неквалифицированных артистов и классово чуждых элементов. Интересно, совпала ли неквалифицированность с классовой чуждостью?
Оперетта с ее графами, баронами, шикарно одетыми женщинами, сомнительными танцами все больше и больше становилась чужеродным явлением в советском искусстве. В январе 1930 года рабочие завода «Красный богатырь» смотрели в театре оперетту «Леди и солдат». После спектакля состоялось ее обсуждение. На нем рабочие говорили о том, что оперетта далека от интересов рабочего класса и не проникнута нужной ему идеологией. Рабочий Паклин сказал, в частности, что оперетта должна быть подана в классовом разрезе. Артисты его не поняли, но согласились.
Когда через год музыкальный критик В. Блюм заявил о том, что музыка и идеология не связаны и что в «социалистическом хозяйстве» пригодится и «веревочка Сильвы» (тоже еще Осип нашелся!), музыкальная общественность возмутилась и подвергла нерадивого Блюма общественной порке, чтобы не защищал западную и нэпманскую халтуру и цыганщину.
В те годы вырабатывался моральный кодекс советских деятелей культуры. Молодое Советское государство хотело видеть в них не богему, а трудящихся.
Считалось непристойным участие артиста в рекламе товаров, тем более иностранных. Популярную певицу Тамару Церетели ругали за то, что она рекламировала иностранную пуховку (пудрилась), а надпись на рекламе с ее изображением гласила: «Я пудрюсь только «киской Лемерсье»». Пуховка была из лебяжьего пуха с маленькой косточкой и основой из розового шелка. Подобные буржуазные штучки раздражали пролетариат. С ними пора было кончать.
Директором Московского мюзик-холла назначили рабочего завода «Авиаприбор» Оглоблина, а в январе 1930 года в «Главискусстве» началась «чистка». Современнику это слово, может быть, ничего не говорит, но тогда оно стоило людям много здоровья и нервов.
Тридцатые годы прошли в очищении рядов и укреплении морали. На Апрелевской фабрике грампластинок в 1931 году было уничтожено свыше 80 процентов матриц пластинок легкого жанра. Правда, на Сухаревском рынке еще можно было за большие деньги приобрести и Лещенко, и Вертинского, которых сильно ругали в газетах. Известный публицист Татьяна Тэсс писала о Вертинском: «Белогвардейский Пьеро, демонстрирующий в парижских кабачках свое обсыпанное трагической мукой лицо с глицериновыми глазами и лирический юлос сифилитика». Читаешь такое и думаешь: когда у публициста не идет содержание, он наваливается на форму, которая становится игривой, хлесткой, с привкусом грязи и похабщины.
Тогда же пластинки Вертинского, Лещенко и других эмигрантов стали «запрещенными», но их все равно слушали, закрыв поплотнее дверь.
В ноябре 1937 года Московский городской суд осудил Григория Ароновича Шлезингера за то, что он, «не желая заниматься общественным полезным трудом… выдавал себя за изобретателя… и в начале 1932 года предложил Научно-исследовательскому институту молочной промышленности получать витамин «Д» путем воздействия на молоко ультрафиолетовых лучей, а также подобным образом увеличивать завиток на мерлушках». Так вот в этом приговоре сказано: «Вещественные доказательства по делу: сто четыре граммофонные пластинки и патефон, отобранные при обыске у Шлезингера, конфисковать в доход государства. Пять граммофонных пластинок (запрещенных) исполнения Лещенко уничтожить». Сурово и несправедливо.