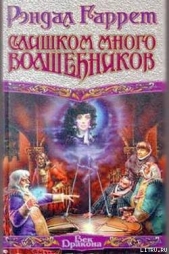Собака Перголези

Собака Перголези читать книгу онлайн
В первый на русском языке сборник эссе знаменитого американского писателя вошли тексты о Витгенштейне, Челищеве, Кафке, Раскине, Набокове, Эдгаре По, секретах застольных манер, искусстве собирать индейские стрелы и таинственной собаке Перголези.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нельзя было упоминать и поиски индейских стрел — одна мысль о том, что ее дочь, зять и их дети разгуливают у всех на виду по лугам и полям, уложила бы бабушку Фант в постель с водруженной на лоб тряпицей, вымоченной в уксусе. Я к тому, что все время, пока длилось мое детство, именно место задавало тон и настроение. Мои учителя ничего не знали о нашей археологии. Разумеется, мисс Анна Браун и мисс Лилли Браун нашли бы повод ее осудить — они были весьма благонравны. Я не помню, чтобы в начальной школе нам рассказывали об истории. О Гражданской войне мы знали только то, что нашу директрису, мисс Мэй Расселл, в младенчестве поднял из кроватки и поцеловал знаменитый разбойник Мэне Джолли, который перед этим, к вящему удовлетворению мисс Мэй, проскакал галопом по длинному банкетному столу, где обедали офицеры Союза, круша все на своем пути, разряжая в янки два шестизарядных револьвера и распевая йодлем: «Root hog or die!» [45] Этот же мятежный вопль издал Дуглас Саутхолл Фримен [46] перед тем, как упасть замертво. Гротеск вряд ли смутил бы мисс Мэй Расселл — разве может джентльмен желать лучшей смерти? Мы обязаны были усвоить: root поется на высокой пьяной ноте — монотонно, как умеют голосить хлопковые плантаторы, hawg — визгливо до невыносимости, и aw dah — истеричное крещендо: не хочешь а вспомнишь, как солдаты Ирода обрабатывали младенцев мужского пола. Мы с удовольствием верещали, и нам тут же предлагалось вспомнить, как было спасено положение на Булл-Ран, [47] где Борегар и Джонсон парились, пока Шестая Добровольческая дивизия Южной Каролины, ведомая Уэйдом Хэмптоном, [48] не вырвалась вперед на левом фланге (солдаты в красных блузах выстраивались вокруг нашего нынешнего суда и, распевая «Пальмовую шотландку», маршем отправлялись в Виргинию).
Но школа была школой, церковь церковью, а дома домами. Принадлежавшее одному никогда не выливалось в другое. Я прекрасно чувствовал себя сначала в воскресной школе, где верил дурной нелепице, в которой они там погрязли, потом дома, пока с упоением разглядывал убийц в старых «Санди-Америкэн», а затем, почти до вечера на охоте за индейскими стрелами. После чего наступало время Джека Бенни [49] и одной-двух глав из сэра Вальтера Скотта. Упоминание закона божьего на охоте за индейскими стрелами стало бы неслыханной бестактностью, попросту безумием.
Правило гласило: всему свое место. И по сей день я пишу картины в одной части дома, тексты в другой, а читаю в третьей — читаю, фактически, в двух: легкое чтение для удовольствия вроде Сименона и Эрла Стэнли Гарднера происходит в одной комнате, научные занятия — в другой. Покидая дом, я становлюсь иным человеком. Непритязательный ум психиатра мог бы заподозрить неладное, но, по-моему, это вполне естественно. Мой кот не узнает меня в квартале от дома, и я вижу по его морде, что также не должен признаваться, будто мы знакомы.
Шоу говорил устами Жанны д'Арк, [50] что если бы все оставались дома, то были бы хорошими людьми. Это во Франции английские солдаты сделались исчадиями ада. И Жанна, и Шоу знали, что говорят. Всякий пес — кобель только у себя во дворе. Я профессор, лишь когда вхожу в аудиторию — там я чувствую, как переключается синдром Джекилла-Хайда. Попав в неконгениальное и чем-либо угрожающее место, я мучаюсь, подобно проклятому еретику. В незнакомой обстановке приспособиться удается не сразу. Но это выполнимо — человек способен на все. Я прочел «Иосифа» Манна, [51] сидя у самого громкого в мире музыкального ящика в комнате отдыха XVIII воздушно-десантного корпуса. Коллега вспоминает, как штудировал Толстого за полевым орудием на Гвадалканале, [52] другой во время сражения при Кохиме [53] дочитывал Шекспира. Отправляясь в окопы Первой мировой, ученые-гуманитарии брали с собой работу. Аполлинер читал критический журнал, когда ему в голову вонзилась шрапнель. Он увидел, как покраснела страница, раньше, чем почувствовал боль. Наполеон вез с собой в Ватерлоо целую карету книг. Однажды на охоте сэру Вальтеру Скотту вдруг пришли в голову хорошие строки: он подстрелил ворону, выдернул у нее перо, заточил его и записал стихи вороньей кровью на своей куртке.
То, сколь легко бывает человеку вне своей скорлупы (мы говорим «не нахожу места», «растерялся», «не в своей тарелке»), может служить настоящим тестом на сообразительность. Я плохой путешественник. Вне дома, даже вместе с родными я, как ребенок, мучаюсь от острой ностальгии. Ничто не опустошает меня сильнее, чем неконгениальное место, и всякая поездка ассоциируется с угрозой этой неконгениальности — такова автобусная станция «грейхаундов» в Ноксвилле с туалетами, залитыми мочой и блевотиной, с омерзительной едой и худшим во вселенной кофе (а правило у них такое, что чем отвратительнее еда, тем она дороже), с ее идиотами-диспетчерами и стадами хулиганья в футболках без рукавов и тесных розовых штанах, злобно и бесцельно шляющихся по залу ожидания; аэропорты; все без исключения заседания — по любому поводу; званые коктейли, пикники, парадные обеды, речи.
Говорят, что поблажки в соблюдении ритуала, больно задевшие чувства dii montes — гномов с холмов, — и привели Рим к падению перед варварами. Гении места — это genii, местные духи. Их знает любой фольклор: герой, связавший свою судьбу с судьбой какого-либо места, умирая, соединял genii с тем, что впоследствии оставалось от его жизни. Наше слово «конгениальность» означает родство с душой места, и всякое место, подобно живому существу, имеет душу.
Охотясь за индейскими стрелами, мы, по — видимому, оставались на конгениальной территории, хотя земля эта обычно принадлежала кому-то другому. Чаще всего люди знали, что мы находимся на их земле, — сельские жители подозрительны. Мой отец вырос в деревне и понимал, что можно, а чего нельзя. Изредка какой-нибудь фермер, выйдя проверить погоду или посмотреть на дорогу, обнаруживал, чем мы заняты. У иных в доме тоже были наконечники стрел, и фермеры отдавали их нам. Они никогда не просили денег — просто отдавали. Даже беднейший из бедняков не стал бы продавать кусок камня.
Здесь, в некрашеных дощатых хибарах издольщиков нам предлагали ковш колодезной воды — чистой и холодной до ломоты в зубах. Иногда перепадал кусок пирога из сладкого картофеля — угощала хозяйка, высокая женщина в фартуке и с манерами провинциальной английской леди. Мы, дети, просили показать нам поросят. Сельские жители были отдельной нацией — и белые, и черные, — их mores [54] запоминались надолго. В каком-то доме, скрутившись в мучительный узел, забилась в угол старшая дочь. Мы подумали об идиотизме, ведь сельские жители не отсылают своих сумасшедших в лечебницы. Но мать простодушно объяснила: «Она распутница, и думает, что вы это видите».
Однажды мы повстречали черное семейство, носившее наше имя, и, обменявшись фамильными историями, — а черные бывают столь же разговорчивы и открыты, сколь белые бедняки молчаливы и сдержаны, — тут же выяснили, что их предки когда-то принадлежали нашим. После чего с нами обошлись как с визитерами королевских кровей: был устроен настоящий прием, а когда мы уходили, старый черный Давенпорт со слезами на глазах обнял моего отца. «О, господи, масса Гай! — воскликнул он. — Неужто вы не хотите, чтоб воротились старые добрые рабские времена!»
Ярче всего из этих походов помнится торовское чувство, с которым мы глядели на все вокруг — землю, растения, камни, породу, звериные тропы и все те тайники природы, которых, казалось, никто никогда прежде не видел: потаенная заплатка мха с мужественно торчащей в середине клобучковой дицентрой, ароматные клочки сушеницы, репей, ящерицы, неотвратимая и безмолвная змея, что всегда уползала при нашем появлении, ястребы, канюки, заброшенные сады, полные яблок, персиков и слив.