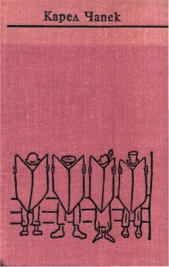Том 5. Очерки, статьи, речи

Том 5. Очерки, статьи, речи читать книгу онлайн
Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.
В пятый том собрания сочинений вошли очерки, статьи, речи, рецензии, отчеты, заявления и письма в редакцию, ответы на анкеты, приложения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отчего при жизни человека мы всегда так смутно и так бледно помним о нем, не умеем достаточно ценить его даже тогда, когда его бытие так бесконечно ценно, как бытие вот этой умершей юности? Вера Федоровна была именно юностью этих последних — безумных, страшных, но прекрасных лет.
Мы — символисты — долгие годы жили, думали, мучились в тишине, совершенно одинокие, будто ждали. Да, конечно, ждали. И вот, в предреволюционный год, открылись перед нами высокие двери, поднялись тяжелые бархатные занавесы — и в дверях — на фоне белого театрального зала — появилась еще смутная, еще в сумраке, неотчетливо (так неотчетливо, как появляются именно живые) эта маленькая фигура со страстью ожидания и надежды в синих глазах, с весенней дрожью в голосе, вся изображающая один порыв, одно устремление куда-то, за какие-то синие, синие пределы человеческой здешней жизни. Мы и не знали тогда, кто перед нами, нас ослепили окружающие огни, задушили цветы, оглушила торжественная музыка этой большой и всегда певучей души. Конечно, все мы были влюблены в Веру Федоровну Коммиссаржевскую, сами о том не ведая, и были влюблены не только в нее, но в то, что светилось за ее беспокойными плечами, в то, к чему звали ее бессонные глаза и всегда волнующий голос. «Пожалуйста, вы ничего не забыли. Вам просто стыдно немножко. Таких вещей не забывают… Подайте мне мое королевство, строитель. Королевство на стол!»
Никогда не забуду того требовательного, капризного и повелительного голоса, которым Вера Федоровна произносила эти слова в роли Гильды (в «Сольнесе» Ибсена). Да разве это забывается?
Я вспоминаю ее легкую быструю фигуру в полумраке театральных коридоров, ее торопливо брошенное приветствие перед выходом на сцену, пожатие ее маленькой руки в яркой уборной; ее печальные и смеющиеся глаза, обведенные синим, ее выпытывающие, требовательные и увлекательные речи. Она была — вся мятеж и вся весна, как Гильда, и, право, ей точно было пятнадцать лет. Она была моложе, о, насколько моложе многих из нас…
Смерть Веры Федоровны волнует и тревожит; при всей своей чудовищной неожиданности и незаслуженной жестокости — это прекрасная смерть. Да это и не смерть, не обыкновенная смерть, конечно. Это еще новый завет для нас, — чтобы мы твердо стояли на страже, новое напоминание, далекий голос синей Вечности о том, чтобы ждали нового чудесного, несбыточного те из нас, кого еще не смыла ослепительная и страшная волна горя и восторга.
Да, тысячу раз правда за этим мятежом исканий, за смертельной тревогой тех взлетов и падений, живым воплощением которых была Вера Федоровна Коммиссаржевская. Была, значит и есть. Она не умерла, она жива во всех нас. И я молю ее светлую тень — ее крылатую тень — позволить мне вплести в ее розы и лавры цветок моей траурной и почтительной влюбленности.
11 февраля 1910
Памяти В.Ф. Коммиссаржевской
Душа настоящего человека есть самый сложный и самый нежный и самый певучий музыкальный инструмент. Таких душ немного на свете. Одна из них — та, которую мы хоронили недавно.
Бывают скрипки расстроенные и скрипки настроенные. Расстроенная скрипка всегда нарушает гармонию целого; ее визгливый вой врывается докучной нотой в стройную музыку мирового оркестра; она вечно дребезжит, а не поет; она предается истерике, но не плачет; она униженно молит о ненужном, но не требует строго и не просит повелительно о необходимом.
Так в плохоньком ресторане оркестр, в пьяную полночь, увеселяет кабацкую голь рыдучим дребезжанием плохих визгливых скрипок.
Но не должно человеку плакать пьяными слезами, изрыгать богохуления, предаваться истерике, клянчить и нарушать визгливым воем своей расстроенной души важную торжественность мирового оркестра. И есть в мире люди, которые остаются серьезными и трагически-скорбными, когда все кругом летит в вихре безумия; они смотрят сквозь тучи и говорят: там есть весна, там есть заря.
Таких людей именуют обыкновенно сумасшедшими или декадентами, но это неверно: их следует звать только художниками. Разве это слово не представляется самым последним бранным словом для современного человека? Зачем же искать еще других слов? — Напрасный труд.
Теперь многим нравится задавать праздный вопрос: как относилась В. Ф. Коммиссаржевская к «новому искусству»? Ответ прост: только так, как художник может относиться к искусству вообще.
Искусства не нового не бывает. Искусства вне символизма в наши дни не существует. Символист есть синоним художника. Коммиссаржевская могла любить или не любить отдельных представителей искусства, но не любить самого искусства она не могла.
Вдохновение тревожное, чье мрачное пламя сжигает художника наших дней, художника, который обречен чаще ненавидеть, чем любить, — оно позволяло ей быть только с юными; но нет ничего страшнее юности: певучая юность сожгла и ее; опрокинулся факел, а мы, не зная сомнений, идем по ее пути: и опрокинутый факел юности ярче старых оплывающих свеч.
У Веры Федоровны Коммиссаржевской были глаза и голос художницы. Художник — это тот, для кого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребенка, но во взгляде этом светится сознание зрелого человека; тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не фальшивя.
Насколько все это просто для художника, настолько же непонятно для обывателя, а что для обывателя непонятно, то для него и недопустимо, то для него и ненавистно.
В. Ф. Коммиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз; она не могла не видеть дальше, потому что в ее глазах был кусочек волшебного зеркала, как у мальчика Кая в сказке Андерсена. Оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхищали нас; говорили о чем-то безмерно большем, чем она сама.
В. Ф. Коммиссаржевская голосом своим вторила мировому оркестру. Оттого ее требовательный и нежный голос был подобен голосу весны, он звал нас безмерно дальше, чем содержание произносимых слов.
Вот почему сама она стала теперь символом для нас. Вот почему десятки тысяч людей, которые шли за ее погребальной колесницей, десятки тысяч людей, почти равнодушных ко всему, что было вокруг нее, — все-таки шли, влекомые тем незнакомым, что стояло за нею, тем тревожным и страшно интересным, что таит в себе имя Слава.
Ее могли хоронить не люди, не мы, а небесное воинство. Ее могли хоронить высокие и бледные монахини на крутом речном обрыве у подножия монастыря, в благоухании полевых цветов и в озарении длинных восковых свеч. Ее певучую душу могли нести блаженные и не знающие греха ангелы из этого «мира печали и слез».
Ее смерть была очистите льна для нас. Тот, кто видел, как над ее могилой открылось весеннее небо, когда гроб опускали в землю, был в эту минуту блаженен и светел, а тяжелое, трудное и грязное отошло от него.
Душа ее была как нежнейшая скрипка. Она не жаловалась и не умоляла, но плакала и требовала, потому что она жила в то время, когда нельзя не плакать и не требовать. Живи она среди иных людей, в иное время и не на мертвом полюсе, — она была бы, может быть, вихрем веселья; она заразила бы нас торжественным смехом, как заразила теперь торжественными слезами.
Вера Коммиссаржевская — это наша вера. Не меркнет вечная юность таких глаз; скрипка такого голоса сливается с мировым оркестром; теперь, после смерти, она поет где-то в нем, за то, что при жизни не нарушала его стройности; она не лукавила, но была верна музыке среди всех визгливых нот современной действительности.
О том, как мы не узнали ее при жизни и как можем запомнить после смерти, я хочу сказать в стихах.