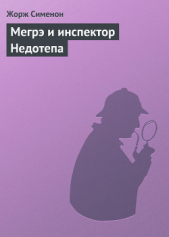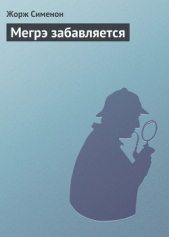Новые парижские тайны

Новые парижские тайны читать книгу онлайн
В сборник вошла политическая публицистика и эссеистика французского писателя Жоржа Сименона (1903) — итог его более чем полувековой литературной деятельности: неопровержимые свидетельские показания о гнете и варварстве агрессоров-колонизаторов («Час негра»), о коррупции правительственной верхушки буржуазного государства, о социальном неравенстве, нищете, безработице и преступности в капиталистическом мире («Дежурная полицейская часть, или Новые парижские тайны»). Все вошедшие в сборник материалы на русском языке публикуются впервые. Выпуск книги приурочен к 85-летию со дня рождения писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ж. С. — Не знаю. Я руководствуюсь инстинктом. И пишу не для того, чтобы оказаться полезным. Я пишу потому, что мне хочется писать. И все-таки с некоторого времени я начал понимать, что приносил пользу, во всяком случае, некоторым. Почти во всех письмах, которые приходят мне, люди пишут вовсе не о том, что они восхищены моей прозой, моим мастерством рассказчика и т. д. и т. п. Нет, это отнюдь не письма поклонников или, как их называют в Америке, «фанатов», какие, думаю, получали Анри Батай [100], Анри Бордо [101], Поль Бурже [102] и другие.
В этих письмах люди мне пишут: «Я прочел такую-то вашу книгу. Мне кажется, что моя проблема похожа на те, которые вы исследуете в своих романах. Не разрешите ли вы рассказать вам о ней? И не будете ли добры откровенно ответить, что вы о ней думаете?» А дальше идут три-четыре страницы исповеди, и эти письма приходят вовсе не от сумасшедших или полусумасшедших (такие, конечно, попадаются, но редко), а от искренних людей; с некоторыми из них мне удалось подружиться.
Поэтому у меня во всем мире множество друзей, и даже очень близких, с которыми я познакомился именно таким образом.
Вот так я понял, что приносил какую-то пользу. Только не следует ее преувеличивать. Думаю, моя полезность проистекает от того, что когда человек обнаруживает, как он похож на других людей, то перестает стыдиться себя и заново обретает веру в жизнь.
В сущности, у человека есть склонность стыдиться себя, и потому в романе, в литературе, в театре, в кино он ищет людей, имеющих те же слабости, являющихся такими же низменными, как он сам.
Любитель чтения или завсегдатай кино и театров похож на соглядатая, который подсматривает в замочную скважину, что делается у соседа. Ему хочется знать, так ли же, как он, устроен его сосед, так ли слаба его плоть, свойственны ли ему те же недостатки, та же глупость, те же мелкие грешки, и, когда человек убеждается, что у соседа все так же, он говорит себе: «Значит, я не такой скверный, как мне думалось». И это дает ему силы и поддерживает весь остаток жизни…
А. П. — Создается ощущение, что фраза у вас имеет прежде всего утилитарное значение, словно вы отвергаете стиль ради стиля.
Ж. С. — Я попытался создать как можно более простой стиль, и поначалу это мне давалось нелегко.
В шестнадцать лет я, как все, писал в манере Шатобриана [103], в восемнадцать еще в чьей-то. В двадцать лег каждый невольно пишет «под кого-то».
Впоследствии я попытался выработать такой стиль, который передавал бы движение и, главное, сам был исполнен движения.
Представьте, что в эту комнату кто-то входит, снимает шляпу, перчатки, открывает рот, чтобы что-то сообщить. В зависимости от порядка, в каком вы опишете его действия, вы дадите совершенно определенный образ. Если он сначала снимет шляпу, а потом перчатки, образ его будет отличным от образа человека, который проделает это в обратном порядке.
Порядок слов во фразе, по моему мнению, куда важнее, чем рафинированный синтаксис.
И вот еще: до сих пор еще мои усилия направлены на то, чтобы использовать лишь «материальные» слова.
После того как я вам признался в презрении, и уж во всяком случае, в недоверии к «чистому разуму», скажу еще, что я ищу слова, которые имели бы вес. Например, у слова «тяжелый», по-моему, есть вес.
А. П. — А, значит, у слова «сумрак» его нет?
Ж. С. — Существуют слова, вроде «сумрак», очень красивые, но всего лишь поэтические и не более того. Их не чувствуешь. А вот «дождь» — материальное слово. Когда вы говорите «проливень», вы теряете всю материальность дождя. Я пытаюсь использовать лишь «материальные» слова и даже, излагая идеи, стараюсь делать это посредством конкретных, а не абстрактных слов.
А. П. — Мне думается, ваши намерения идут гораздо дальше, и я уверен (впрочем, тому есть доказательства), что вы открыли некий интернациональный язык. То есть я хочу сказать, что при переводе достоинства вашего стиля практически не теряются.
Ж. С. — Верно. В большинстве стран переводят меня легко, и мы с женой, просматривая английские и американские переводы, увидели, что можно передать ритм и движение чужого языка.
И тут происходит любопытная вещь. Во Франции часто говорят, что я пишу «как свинья» или, в лучшем случае, неграмотно. В Америке считают, что у меня прекрасный стиль. Не потому ли это, что при переводе не обращают внимания на то, что я не всегда строго придерживаюсь грамматики? Однако если я и позволяю себе грамматические вольности, то намеренно, потому что движение ставлю выше правил. Я часто допускаю синтаксическую неправильность, чтобы не нарушать ритм. По мне, важнее всего движение.
А. П. — У меня впечатление, что если у некоторых писателей при переводе на другой язык пропадает тридцать процентов романа, то у вас — процента три.
Ж. С. — Думаю, мы все ближе и ближе подходим к моей концепции чистого романа, который я называю романом будущего. Такой роман сможет прочесть любой. Достоевский читается по-французски гак же хорошо, как по-русски. Я беседовал со многими русскими на эту тему, и они мне подтвердили, что мы не утрачиваем ничего от сути Достоевского.
То же и с Хемингуэем. Я читал его на двух языках. Вы почти ничего не теряете, читая его по-французски, так же как и Фолкнера, который, однако, пишет сложными периодами.
Я утверждаю, что современный писатель, по существу, интернационален, и то, что он говорит, некое звучание, ритм фразы куда важнее стиля и грамматической выстроенности.
Главное — это сказать то, что необходима сказать, как можно сильней, как можно лаконичней и примерно одинаково воздействовать на самых разных читателей.
А. П. — И еще у меня впечатление, что заботы о «стиле ради стиля» вас не занимают.
Ж. С. — Ни в коей мере.
А. П. — Вы, очевидно, несколько презираете романистов XIX века и считаете, что их грамматические изыскания второстепенны и вели к забвению того, что для романиста является главным.
Ж. С. — Нет, я не презираю их, потому что не презираю никого. Думаю, они были полезны. Они оставили прекрасные произведения. Например, я ценю некоторые книги Гонкуров [104], но думаю, что они были бы гораздо более крупными писателями, если бы не их постоянные поиски формы, редкого эпитета и т. п. Из-за этого сейчас их трудно читать.
То же самое и в других странах. Многие романисты прошлого века по этой причине сейчас нечитабельны.
А с другой стороны, возьмите Диккенса или Стивенсона, о котором в его время говорили, что он плохо пишет, точь-в-точь как о Бальзаке. Сейчас их читают во всем мире и наконец поняли, что у них совершенный стиль, так как он выражает то, что хочет выразить автор. В английских университетах нарастает восхищение Стивенсоном, он превращается в великого, хотя прежде считался писателем для простонародья, сочинителем развлекательных историй, человеком, пишущим неправильно.
А. П. — Иначе говоря, вы считаете, что писатель должен забыть себя ради своего героя и отвергнуть заботы о синтаксисе, словаре, стиле, поисках редкого слова.
Ж. С. — Переведите это на живопись. Представьте себе живопись ради живописи, ради приема. А такое было и есть. Но быстро проходит. Достаточно десяти лет, и все это устаревает.
Великих художников, тех, которые остались, и нынешних, которые останутся, не слишком заботил прием как таковой.
Прием должен быть подчинен сюжету, намерению художника.
А. П. — Я думаю, что ваш биограф Нарсежак [105] удачно понял эту проблему. У него есть одна фраза, в любом случае весьма примечательная. Вот что он пишет: «Сименон ограничивается тем, что помещает нас в своего рода магнитное поле, подобное, вне всякого сомнения, тому, которое воспринимает почтовый голубь. Мы ловим материальные волны, и они нацеливают нас, дают точное направление, ведут к героям, затерянным среди необыкновенного света, подобного черному свечению. У Сименона нет культа разума, у него культ то ли инстинкта, то ли души. Проникнуть в него мы можем только ведомые сочувствием».