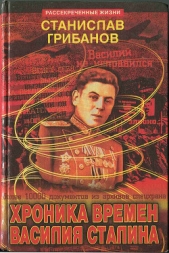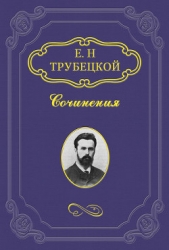Сталин и писатели Книга первая

Сталин и писатели Книга первая читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пастернак, которому все это было знакомо с младенчества («Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, — а слова являются о третьем годе»), потому-то и поморщился досадливо на вопрос Сталина («Но ведь он же мастер?»), что вопрос этот предполагал принципиально иное представление о существе дела. Представление это, резонно казавшееся Пастернаку чудовищной чушью, так как оно находилось в вопиющем противоречии со всем его опытом, предполагает, что единый и нераздельный процесс отчетливо делится на «содержание» и «форму», причем собственно писание стихов состоит как раз в том, что для «содержания» подбирается соответствующая «форма».
Идущих этим путем Мандельштам в «Разговоре о Данте» назвал «переводчиками готового смысла». Тут слово «мастер» было бы вполне уместно. Но оно имело бы смысл скорее уничижительный, нежели комплиментарный.
В том же «Разговоре о Данте» Мандельштам сравнивает «форму» с губкой, из которой выжимается «содержание». Если «губка» суха, из нее ничего не выжмешь.
Таков был единственный доступный ему способ творить.
Очень характерно, что, ощутив невозможность написать стихи иным способом, Мандельштам позавидовал не кому-нибудь, а именно Асееву.
Асеев — «мастер», в понимании Мандельштама, вовсе не потому, что владеет некими ремесленными приемами, которыми он, Мандельштам, не владеет. Дело не в этом.
Асеев — «мастер» прежде всего потому, что «поиски максимальной яркости выражения и незаношенности речи», как он сам признавался, всю жизнь были для него главным и, может быть, даже единственным стимулом поэтической работы. Слово, словесная ткань стиха — в этом для Асеева начало и конец работы поэта, с этого все начинается и к этому все сводится, даже когда порыв и вдохновение истинного творца он противопоставляет механическому версификаторскому умению виршеплета-ремесленника:
Стихи можно научиться рифмовать и аллитерировать, но придать им силу и выразительность таким сочетанием слов, которые бы переосмысливали обычное в необычное, раскрывали бы сущность явления не через длительное изложение, а молниеносно, озаренно, пронизывая как электричеством смысла слова, отдаленно живущие в обиходе, — этому научиться нельзя; для этого надо быть поэтом, а не виршеплетом.
Как обстояло бы дело, если бы Асеев, очутившись в положении Мандельштама, решил написать стихи, прославляющие Сталина? Сталин — гений. Это было для него аксиомой. Задача состояла бы в том, чтобы «оформить» эту аксиому с максимальной «художественностью», то есть не банально, стремясь к «максимальной яркости и незаношенности речи», к максимальной остроте и выразительности словесного и образного построения.
Нет, он бы не кривил душой. Он был бы даже по-своему искренен. Но эта искренность не была бы результатом полного, абсолютного самообнажения.
Асеев, пользуясь термином Мандельштама, был «переводчиком готового смысла». Разница между Мандельштамом и Асеевым была не в том, что они по-разному относились к Сталину и к советской действительности. Разница была в том, что Асеев умел писать стихи, не самообнажаясь, не вытаскивая на поверхность, не выявляя в стихе весь запас своих подспудных, тайных впечатлений, идущих из подсознания, из самих глубин личности. А Мандельштам этого не умел.
Попытаться написать стихи, прославляющие Сталина, — это значило для него прежде всего найти где-то на самом дне своей души хоть какую-то точку опоры для этого чувства.
Не случайно, фиксируя процесс создания «Оды», Н. Я. Мандельштам всячески подчеркивает искусственность этого акта, выразившуюся в совсем не свойственном Мандельштаму стремлении сочинять за столом, с карандашом в руке («….писатель как писатель!»).
Впрочем, по ее же свидетельству, долго усидеть за столом Мандельштаму не удавалось:
Не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: «Вот Асеев — мастер!..»
…Потом, внезапно успокоившись, ложился на кровать, просил чаю, снова поднимался, через форточку кормил сахаром соседского дворового пса — чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой и карандашами, — снова расхаживал взад и вперед по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значит, что он не сумел задушить собственные стихи и, вырвавшись, они победили рогатую нечисть.
Чтобы лучше объяснить, что я имею в виду, проделаем такой простой эксперимент.
Внимательно вглядимся (вслушаемся) в самые сильные, поэтически выразительные строки «Оды». (Каких, надо признать, там немало.)
Да, это — не Долматовский и не Лебедев-Кумач. Это Мандельштам.
И вот это:
И это:
И вот это:
Поэтическая сила и выразительность этих строк обусловлена тем, что они рождены прикосновением поэта к реальным, глубоко затрагивающим его темам. Скажем, с отношением его к творческому процессу:
Или с отношением поэта к двусмысленности своего положения:
То есть рождены эти строки обращением поэта внутрь себя.
Но стоит только ему приблизиться к главному предмету своего лирического словоизлияния, то есть к тому, ради чего, собственно, и затеяно все это рискованное предприятие, — как в голосе его начинают звучать фальшивые ноты.
Рядом с сильными и выразительными, поэтически яркими и индивидуальными строчками появляются беспомощные, почти пародийные. В лучшем случае — никакие: