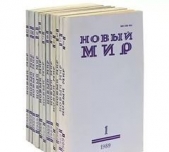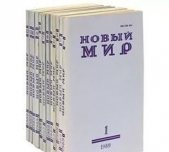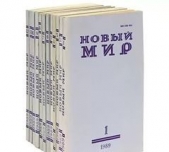Знамя Журнал 8 (2008)

Знамя Журнал 8 (2008) читать книгу онлайн
Знамя» - толстый литературный журнал, издающийся с 1931 года, в котором печатались корифеи советской литературы, а после 1985 г. произведения, во многом определившие лицо горбачёвской перестройки и гласности.Сегодня журнал стремится играть роль выставки достижений литературного хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но прозу и поэзию молодых писателей, которых критика называет будущим русской литературы.http://magazines.russ.ru/znamia/
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта открывшаяся ей анонимность есть факт внешний, но и факт внутренний, момент глубинной, подлинной биографии. Я никто, я какая-то, со своим саквояжем, или с чем она ездила, иностранка, которая тащится из одного города в другой на тяжелых поездах военного времени, пассажирка среди пассажиров, какая-то смешная француженка, что-то такое преподающая местным дурехам, и кому какое дело, что именно я писала когда-то, какие повести, какие романы, что надеялась еще написать. Ничего этого больше нет, ни прошлого, ни надежд. Мы все похожи в этой безымянной толпе. Вот это и есть поражение (пускай временное), Scheitern (пускай предварительное). Мы начинаем существовать анонимно, наша до сих пор совпадавшая с нами личность (персона), отвалившись от нас, рассыпается. Тот проект, которым мы были, больше не существует. Неудивительно, что в самих “Воспоминаниях Адриана” эта тема всплывает неоднократно. “Мне должно было исполниться сорок лет”, говорит Адриан об эпохе, предшествовавшей его приходу к власти. “Если бы я в ту пору погиб, от меня осталась бы только имя в ряду прочих сановных имен и греческая надпись в честь архонта Афин. С той поры всякий раз, когда я видел, как человек умирает в расцвете сил, а современники считают при этом, что в состоянии верно оценить его успехи и его неудачи, я говорил себе, что в этом возрасте я что-то значил лишь в своих собственных глазах и в глазах немногих друзей, которые, наверное, порою сомневались во мне, как и я сам. Я стал сознавать, что очень мало людей успевают осуществить себя за отпущенный им жизненный срок, и начал судить об их прерванных смертью трудах более милостиво, чем прежде. Навязчивый образ несостоявшейся жизни приковывал мою мысль к одной точке, терзал меня, как нарыв”. Самой же Юрсенар было в 1939 году, в начале ее “черного периода”, “десятилетней ночи”, тридцать семь лет; в декабре 1948 года, когда она получила из Швейцарии еще до войны оставленный ею там чемодан с бумагами - наверное, самый знаменитый чемодан в истории французской литературы - соответственно, сорок пять. Есть книги, на которые до сорока лет покушаться и не следует, пишет она в уже упомянутых примечаниях к роману. Я была слишком молода… В конце 1948 года она была, следовательно, уже достаточно немолодой, чтобы роман смог наконец начаться; в полученном чемодане, среди семейных бумаг и старых писем, обнаружилось несколько пожелтевших листков с отброшенным когда-то началом романа. ““Дорогой Марк…” Марк… О каком друге, любовнике, дальнем родственнике идет речь? Я не помнила этого имени. Прошло несколько мгновений, прежде чем я поняла, что Марк - это Марк Аврелий и что я держу в руках фрагмент утраченной рукописи. С этой минуты у меня уже не возникало сомнений: книга во что бы то ни стало должна быть написана заново”. Это был мгновенный выход, следовательно, мгновенное озарение, показавшее путь выхода из тупика, создавшее саму возможность этого выхода. Все в целом, все эти десять черных лет, были, значит, трансформацией, метаморфозой, мучительным переходом от “ранней” Юрсенар к “поздней” Юрсенар, смертью и новым рождением. “Умри и будь”, еще и еще раз, stirb und werde. Это сказка со счастливым концом; крушение оказалось не окончательным; поражение - лишь временным. За поражением последовали победы, другие книги, слава, Acadйmie Franзaise. Крушение окончательное? Сильнейший символ его находим все в тех же “Воспоминаниях Адриана”. Это император Траян, предшественник Адриана, в своей жажде завоеваний добравшийся до Персидского залива, накануне военной катастрофы глядящий на его, залива, “тяжелые волны” (“тяжелые воды”, как буквально и удивительно сказано в тексте - eaux lourdes). “Это было тогда, когда он еще не сомневался в победе, но тут его впервые в жизни объяла тоска при виде бескрайности мира, ощущение собственной старости и ограничивающих всех нас пределов. Крупные слезы покатились по морщинистым щекам человека, которого все считали неспособным плакать. Вождь, принесший римских орлов к неведомым берегам, осознал вдруг, что ему уже не отправиться в плавание по волнам этого столь желанного моря; Индия, Бактрия - весь этот загадочный Восток, которым он опьянял себя издали, - так и останутся для него лишь именем и мечтой. На другой день дурные новости вынудили его пуститься в обратный путь. Всякий раз, когда и мне судьба говорит “нет”, я вспоминаю об этих слезах, пролитых однажды вечером, на далеком морском берегу, стариком, быть может, впервые взглянувшим в лицо своей жизни”. Вот именно - в лицо своей жизни. Именно, еще раз, крушение, Scheitern, и заставляет нас взглянуть в лицо своей жизни, заглянуть ей в глаза, как бы мы ни отворачивались, как бы своих глаз ни прятали.
Здесь, разумеется, старость, предчувствие конца, близость смерти; здесь выхода уже быть не может. Но бывает и в начале жизни крушение, определяющее ее дальнейший ход, ее, соответственно, входы и выходы. Вот, возьмем другой пример, Филип Ларкин, любимейший мой поэт. Для Ларкина было в молодости все ясно - он опубликовал свой первый роман “Джилл” в 1946 году, в двадцать три года; в следующем году напечатал уже и следующий, “Девушка зимой”. Затем наступает кризис, в течение нескольких лет он все пытается - и не может - написать свою третью прозаическую книгу; карьера прозаика обрывается - бесповоротно. Со свойственной ему иронией рассказывает он в одном из позднейших интервью, какой ему виделась в юности дальнейшая жизнь. “Я думал, я буду шесть месяцев в году писать по 500 слов в день, отправлять результат издателю, а оставшееся время спокойно жить на Лазурном берегу, отвлекаемый разве что чтением корректуры. Вышло иначе - какое разочарование”. Были зато стихи - стихи, поначалу существовавшие параллельно с прозой, воспринимавшиеся как что-то, по отношению к этой прозе если не второстепенное, то уж точно не первостепенное, равностепенное, и причем стихи еще подражательные, еще, что для всякого поэта - основной критерий, не дававшие ощущения своего голоса, своих тем, своей интонации. Тем не менее он уже в 1945 году, в неполных двадцать три года, выпустил первый стихотворный сборник “Северный корабль” (The North Ship), и в последующие годы не оставлял стихотворства. Но все это еще - juvenilia, незрелые опыты, в качестве таковых и переиздававшиеся в конце жизни самим автором, и переиздающиеся теперь. Что-то, может быть, уже начиналось и созревало, но исподволь - или, скажем так, те отдельные стихотворения, возникавшие уже в конце сороковых, начале пятидесятых годов, которые нам кажутся уже вполне (или почти) “ларкиновскими”, кажутся нам таковыми, потому что мы знаем дальнейшее, знаем собственно Ларкина, “настоящего” Ларкина; они вовсе не должны были казаться самому Ларкину - “ларкиновскими”; “Ларкина” ведь еще не было. “Голос” должен быть найден, чтобы его первые проявления, предвестия и пробы могли быть восприняты как проявления и пробы именно этого голоса. Общего ощущения провала и неудачи эти отдельные тексты превозмочь, разумеется, не могли. В стихотворении сорок девятого года, прямо и обращенном к “поражению” (To Failure), говорится о его, поражения, недраматичности (You do not come dramatically…). Никаких драконов и привидений, но бессолнечные дни, но затхлый вкус этих дней, но утекание времени, развалины прошлого. Процитирую, впрочем, восхитительный оригинал:
It is these sunless afternoons, I find,
Instal you at my elbow like a bore.
The chestnut trees are caked with silence. I’m
Aware the days pass quicker than before,
Smell staler too. And once they fall behind
They look like ruin. You have been here some time.
Другое стихотворение на ту же тему, 1950 года. В язвительном эпиграфе цитируя Кафку, жалующегося на то, что вот он, Кафка, уже пять месяцев не может писать, “а пять лет не хочешь?” восклицает, не буквально, но по смыслу, Ларкин (My dear Kafka, / When you’ve had five years of it, not five months, / Five years of an irresistible force meeting an immoveable object right in your belly, / Then you’ll know about depression). Тут же - рассказ о том, как все житейские заботы Теннисона брала на себя его жена, сам же он “сидел как младенец, занимаясь своим поэтическим делом”. Такой жены у Ларкина не было, вообще не было никакой, так что житейские заботы приходилось нести самому. То есть надо было, опять же, как-то зарабатывать на жизнь. Почти сразу после окончания Оксфорда, в 1943 году, Ларкин начинает работать в библиотеке, сначала в “просто” библиотеке в Веллингтоне (графство Шропшир, глухая провинция), затем, с 1946 года, в библиотеке университетского колледжа в Лейсестере (Leicester), с 1950 года в Белфасте; наконец, в 1955 году возглавляет университетскую библиотеку города Халл (Hull), на северо-востоке Англии, провинция вполне тоже глухая. В Халле и прожил он до самой смерти, так и работая директором библиотеки. И здесь, следовательно, - провинция, анонимность, удаление от литературной среды и сцены. Но здесь все иначе, другой характер, другая судьба. Примерно с 1950 года, с переездом в Белфаст, “свой голос” начинает прорезываться; возникают стихи, впоследствии вошедшие в первый “настоящий” поэтический сборник Ларкина “Менее обманутые” (The Less Deceived, 1955). Если это и был - а это был, конечно - выход из тупика и преодоление кризиса, то совсем не такое преодоление, к какому он первоначально стремился, упорствуя в своих попытках написать третий роман; этот выход оказался выходом боковым; этот выход вывел в совсем другую, до сих пор незнакомую сторону. Первоначальный “проект личности” рухнул; выяснилось, что “личность” другая - не, как он думал, прозаик и поэт одновременно, с акцентом на первом, а только поэт, и не тот успешный автор, каким он надеялся стать (и каким стал, например, его близкий друг Кингсли Эмис), а человек, который всю жизнь тянет рабочую лямку, уходит утром на службу, возвращается вечером, пишет по вечерам. Никакого Лазурного Берега - скучная служба в библиотеке, всю жизнь, до самой, относительно ранней, смерти. Отчаяние? Отчаяние вообще было Ларкину свойственно. “Утраты для меня то же, что нарциссы для Водсворта”, сказал он в одном интервью (“Deprivation is for me what daffodils were for Wordsworth”). “Именно несчастье вызывает к жизни стихи. Счастье - нет”. “Я думаю, что в основе моей популярности, если таковая вообще имеется, лежит как раз тот факт, что я пишу о несчастии. В конце концов, ведь большинство людей и вправду несчастны, разве нет?” Все цитаты из того же интервью. Отсюда следует, что несчастье было ему, в конце концов, необходимо, чтобы стать самим собой; тот счастливчик с Лазурного Берега ничего бы и не написал. Не написал бы, во всяком случае, тех ларкиновских стихов, за которые мы и любим его, стихов, кстати, которые, какими бы мрачными они ни были, какие горькие истины ни высказывались бы в них, все-таки чудесным образом утешают читателя, потому ли, что “подлинное искусство всегда утешительно”, как писал Ходасевич, потому ли, что в стихах этих всегда, или почти всегда, присутствует как бы другая инстанция, другой полюс, не всякий раз облеченный в слова, но всякий раз ощутительный. Пусть речь идет о смерти и старости, об утратах и поражениях, всегда есть, в словах или за словами, какие-то иные отсветы, иные мерцанья… Все это сам Ларкин, разумеется, понимал; отсюда очевидное приятие им своей неблистательной судьбы. “Работа в библиотеке меня устраивает”. “Мне вообще кажется, что регулярная работа - вещь для поэта неплохая. Вы ведь не можете писать больше двух часов в день - а после этого что вы будете делать? Еще ввяжетесь в какие-нибудь неприятности…”. “Что касается Халла, то он мне нравится, потому что расположен так далеко от всего. По дороге в никуда, как кто-то сказал. Он лежит посреди этой пустынной местности, а за ней уже только море. Мне это нравится”. Вы, значит, не испытываете потребности быть в центре событий? - спрашивает изумленный журналист. “О нет. Я испытываю очень большую потребность быть на периферии событий”. И никакого желания посмотреть последнюю пьесу? “К значительнейшим мгновениям моей жизни я отношу тот миг, когда я осознал, что можно просто взять и уйти из театра”. Здесь тоже, конечно, есть стилизация, но за самой стилизацией стоит на сей раз действительный выбор, осознание своей судьбы и в конечном счете согласие с ней. Юрсенар соглашалась post festum, преодолев и повернув все иначе; для Ларкина то, что было некогда поражением, оказалось формой осуществления…