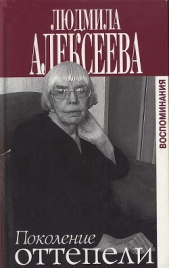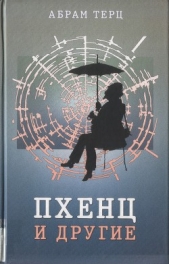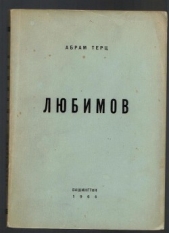Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля

Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля читать книгу онлайн
Сборник основан на трех источниках: проза Николая Аржака, проза Абрама Терца, «Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», составленная в 1966 году Александром Гинзбургом.
События, которые вошли в историю XX века как «процесс Синявского и Даниэля», раскололи русскую общественную жизнь 60-х годов надвое и надолго предопределили ее ход. История защиты двух литераторов, чрезвычайно интересна сама по себе: с точки зрения истории русской литературы, это едва ли не единственный случай, когда искусство защищается от судебного преследования с помощью самого искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне бы радоваться тогда своему счастию и узнать поточнее, кем я был и буду в следующие разы, встретимся ли мы с Наташей и поженимся ли мы с нею когда-нибудь и как связать воедино разбросанную по кусочкам жизнь? Но я вместо этого глупо бегал от смерти и боялся ее, как ребенок, и вот она пришла и разделила нас. Нет Наташи, нет Сусанны Ивановны, и Боря тоже умер, и летчику-испытателю осталось совсем немного…
Не помню, чей афоризм: «Мертвые – воскреснут!» Что ж, я не спорю. Воскреснуть-то они воскреснут. Уже сейчас каждый день в родильных домах воскресает масса народу. Но помнят ли они о себе, о нас – когда воскресают? – вот вопрос! Узнаем ли мы в них, в наших беспечных детях, тех, что в прошлые времена приходились нам женами и отцами? А ведь если никто никого не вспомнит и не узнает, значит, – все остается по-прежнему, и смерть разделяет нас перегородками забвения, и допустима ли такая с нашей стороны забывчивость?
Нет! Вы как хотите, а я – покуда все не улучшится и не изменится – я остаюсь с мертвыми. Нельзя бросать человека в этакой нищете, в этаком последнем и окончательном унижении. А что может быть униженнее мертвого человека?…
Я теперь все больше живу воспоминаниями. Цветной бульвар. Наташа. Мои разногласия с Борей. Чудак-человек. Ну чего он со мной не поладил? Полковник Тарасов. Славный, простой человек – полковник Тарасов. Как мы с ним хорошо выпивали. После Наташи я в рот не беру спиртного…
Но чаще другого мне приходят на память два эпизода. Оба они – из будущего. Первый – в больнице, ночью, все спят, и сиделка на табурете, подремывая, поджидает, когда же, в конце концов, я отпущу ее спать. Мне еще долго ждать, и меня мучают угрызения, что я все еще живой, тогда как другие умерли. Бессовестно жить – когда другие умерли. Нечестно, несправедливо. Но у меня не получается…
А потом – наоборот – я стою на балконе и колочусь вместе с бабочками в освещенное окно. Но снова мне никак не удается проникнуть туда, за прозрачную перегородку, в светлую комнату. Живая Наташа сидит и читает книгу – ту самую, быть может, которую я написал. И я пишу отсюда, пишу, колотясь туда, и не знаю – услышу ли когда-нибудь это тягостное постукивание…
А ты, Наташа, услышишь? Дочитаешь ли ты до конца или бросишь мою повесть где-то на середине, так и не догадавшись, что я был поблизости? Если бы знать! Не знаю, не помню. Надо бы все объяснить. Уточнить. С самого начала. Нет, не сумею. Того и гляди захлопнет. Говорю тебе, Наташа, перед тем, как наступит конец. Подожди одну секунду. Повесть еще не кончена. Я хочу тебе что-то сказать. Последнее, что еще в силах… Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя, Наташа. Я так, я так тебя люблю…
1961
ПХЕНЦ
1
Сегодня снова встретил его в прачечной. Он сделал вид, что не замечает меня, всецело занятый своим грязным бельем.
Сперва шли простыни, которыми здесь пользуются по соображениям гигиены. На одной стороне такой простыни крохотными буквами вышивают слово «ноги». Это придумано для того, чтобы предостеречь: человек не должен касаться губами зараженного места, о которое еще вчера терлись его ступни.
Удар ногою тоже почитается более оскорбительным действием, чем удар рукою, и не только потому, что нога бьет больнее. Вероятно, в этом неравенстве дает себя знать неизжитое христианство. Нога должна быть греховнее всего остального тела по той простой причине, что она дальше от неба. Лишь к половым частям наблюдается худшее отношение, и тут что-то скрыто.
Потом шли наволочки с темными пролежнями в середине. Потом полотенца, которые в отличие от наволочек быстрее пачкаются по краям, и, наконец, разноцветные комья нательного белья.
В эту минуту он принялся метать свои вещи с такой скоростью, что я не успел их как следует разглядеть. Быть может, он желал соблюсти какой-то секрет, а может, как все люди, стыдился демонстрировать предметы, непосредственно прилегающие к ногам.
Но мне показалось подозрительным то обстоятельство, что он сдает в стирку заношенное белье. Обыкновенные горбуны чистоплотны. Они опасаются своей одеждой вызвать дополнительное отвращение. А этот, вопреки ожиданию, был неряшлив, как будто он – не горбун.
Даже приемщица белья, ко всему привыкшая баба, для которой не в диковинку следы самых редкостных соков, не выдержала и сказала ему довольно-таки громко:
– Что это вы, гражданин, мне в морду тычете? Не умеете спать аккуратно – сами стирайте!
Он молча расплатился и убежал. Я не последовал за ним, чтобы не привлекать чужое внимание.
Дома было обычно. Едва я вошел к себе, появилась Вероника. Она, потупив глаза, предложила вместе поужинать. Мне было не с руки отказывать этой девушке. Она единственная из всей квартиры относится ко мне сносно. Жаль, что ее сочувствие зиждется на сексуальной основе. Сегодня я окончательно мог в том убедиться.
– Как поживает Кострицкая? – спросил я Веронику, стараясь направить беседу в сторону общих врагов.
– Ах, Андрей Казимирович, она опять угрожала.
– В чем дело?
– Да все то же. Свет в ванной комнате и забрызган пол. Кострицкая заявила, что пожалуется управляющему.
Это известие вывело меня из себя. Я меньше других пользуюсь канализацией. В кухню почти не вхожу. Могу я компенсировать кухню за счет ванной комнаты?
– Ну и пусть, – ответил я резко. – Она сама жжет свет киловаттами. А ее дети разбили мою бутылку. Пусть придет управдом.
Но я понимал, что призыв к вмешательству власти был бы с моей стороны чистейшей воды авантюрой. К чему лишний раз обращать на себя внимание?
– Успокойтесь, Андрей Казимирович, – сказала Вероника. – Все нелады с соседями я беру на себя. Успокойтесь, прошу вас.
Она протянула руку, чтобы потрогать мне лоб. Я успел отшатнуться.
– Нет-нет, здоров и никакой температуры. Давайте ужинать.
На столе дымилась и скверно пахла еда. Меня всегда поражал садизм кулинарии. Будущих цыплят поедают в жидком виде. Свиные внутренности набиваются собственным мясом. Кишка, проглотившая себя и облитая куриными выкидышами, – вот что такое на самом деле яичница с колбасой.
Еще безжалостней поступают с пшеницей: режут, бьют, растирают в пыль. Не потому ли мука и мука разнятся лишь ударением?
– Да вы кушайте, Андрей Казимирович, – уговаривает Вероника. – Не расстраивайтесь, пожалуйста. Всю вину я беру на себя.
А что если человека приготовить тем же порядком? Взять какого-нибудь инженера или писателя, нашпиговать его его же мозгом, а в поджаренную ноздрю вставить фиалку – и подать сослуживцам к обеду? Нет, муки Христа, Яна Гуса и Стеньки Разина – сущая безделица рядом с терзаньями рыбы, выдернутой на крючке из воды. Те по крайней мере ведали – за что.
– Скажите, Андрей Казимирович, вы очень одиноки? – спросила Вероника, внося в комнату чайник.
Пока она ходила за чайником, я вывалил свое блюдо в газетку.
У вас были друзья, -
она положила сахар,
– дети, -
еще ложка сахару,
– любимая женщина?… -
и ну размешивать, размешивать.
По всему было заметно, что Вероника волнуется.
– Друзей мне заменяете вы, – начал я осторожно. – А что касается женщин, то вы же видите: я стар и горбат. Стар и горбат, – повторил я с неумолимой настойчивостью.
Я честно желал предотвратить признание: зачем оно мне, когда и без этого трудно? Стоит ли портить наш военный союз против злых соседей, возбуждать к себе повышенный интерес не нашедшей применения девушки?
Чтобы избежать беды, я был готов прикинуться алкоголиком. Или преступником. А, может, лучше умалишенным, педерастом наконец? Но я боялся: каждое из этих качеств могло придать моей особе опасный, интригующий блеск.
Мне оставалось акцентировать мой горб, возраст и мизерную зарплату, мою тихую профессию счетовода, отнимающую массу времени, и что такому, как я, горбуну под стать соответствующая горбунья, а нормальной красивой женщине нужен симметричный мужчина.