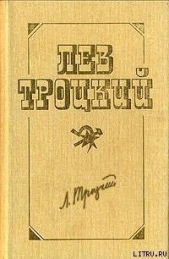Проблема культуры (сборник очерков и статей)

Проблема культуры (сборник очерков и статей) читать книгу онлайн
«Последняя цель культуры — пересоздание человечества; в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого творчество кует ценность» — эти положения, сформулированные Белым в очерке «Проблема культуры», вошедшем в первую книгу трехтомника — «Символизм», легли в основу многих его работ.
Сборник статей и очерков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Антиномии, которых мы так кратко коснулись, соединяясь друг с другом, образуют в личности сложнейший лабиринт жизненных отношений; в каждом данном конкретном случае сложность действительности всякий раз превышает практические ответы, диктуемые выводами из ныне отживших мировоззрений; каждое из этих мировоззрений рисовало нам жизнь упрощенно; являлись ли такими мировоззрениями материализм, позитивизм, пессимизм или идеализм, мистицизм — все равно: конкретно переживаемое осознается хотя бы в переживании и бесконечно сложнее, и противоречивее; действительность являет нам сложное соединение поступков и мировоззрений; наши же правила отношения к жизни, покоясь на пережитой простоте, не могут нас удовлетворять. Ибсен первый из драматургов отразил в своей драме действительную сложность отношений; его революционная деятельность заключается в том, что он срывает с нас методологические очки. До Ибсена мы жили в атмосфере гипноза; хотя мы и чувствовали жизнь сложнее, нежели о ней- говорили нам господствующие мировоззрения, однако мы не смели признаться друг другу и себе в том, какова умалчиваемая нами переживаемая действительность; мы невольно представляли себя и других всецело позитивистами, романтиками, мистиками; мы не хотели признаться, что мы то и другое — одновременно; и в произведениях драматического искусства господствовала крайняя отвлеченность в изображении действительности; перед нами являлись типы, и только типы; но только редкое художественное произведение возвышается до подлинной типичности, где тип становится всечеловеческим, вневременным, бессмертным; обычно же тип вырождался в драме в ходячую тенденцию; и это имело место как раз в реалистической драме; в драме выражалась схематизированная простота поступков, а вовсе не подлинная сложность мотивов, подготовляющая коллизию. Тип в реалистической драме до Ибсена выродился в тенденциозный футляр; в этот футляр втискивался человек; перед нами был человек в футляре, а мы принимали этот человеческий футляр за подлинного человека. Почему? Потому что и сами мы были людьми в футляре; схематизм, присущий догматическим мировоззрениям недавнего прошлого, суживал наше отношение к жизни, а стоящие на страже городовые футлярных мировоззрений гипнотизировали личность; каждое мировоззрение имело свой плакатный символ веры, малейшее отступление от которого преследовалось строго городовыми от позитивизма, рационализма, религиозного догматизма и т. д. Мы все — эстеты, либералы, социалисты и анархисты — были одинаково узкоконсервативны к требованиям живой личности. И когда Ибсен первый показал нам воочию подлинного человека со всей его скрываемой, подпольной сложностью, мы забили тревогу; личность оказалась несоизмеримой с самого разнообразного сорта футлярами, куда мы ее старались упрятать; Ибсен разбил футляр на человеке — правда, как бы со сцены: это геройство стоило ему многих страданий: он принужден был бежать с родины; но своим геройским поступком он помог разбить футляр на многих из нас; ибсеновская сцена оказалась более жизненной, нежели театральность показной стороны жизни; «В жизни этого нет», — сказало европейское общество, увидав ибсеновских героев; «Формы проявления нашей жизни в обществе безжизненны», — ответил нам Ибсен; «Да, это так», — подхватили немногие. Завязалась тяжба. И победил Ибсен: после Ибсена мы уже не вернемся к драме Сарду, Золя и даже Зудермана. Ибсен разбил футляр на человеке только в искусстве; частью благодаря ему этот футляр ныне разбит и на нас.
В этом отношении прав один из литературных критиков Ибсена, Лотар, когда он говорит следующие характерные слова: «Все, что прошлое столетие дало в области мысли, все отразилось в художественном творчестве Ибсена. Его анализ отдельной личности является синтезом века. Романтизм и реализм, пессимизм и оптимизм, социализм и индивидуализм — все течения времени сумел Ибсен заставить служить своим целям. И в этом целом труд его был посвящен будущему, которое Должно дать людям то, что им принадлежит, — права личности». А вот что говорит по этому поводу Йегер: «Драма вообще не сразу оказалась на уровне общего духовного прогресса в Европе». Датская газета «Социал-Демократ» следующим образом характеризует Ибсена: «Он был, как сам себя обрисовал в одном из своих стихотворений, рудокопом, который своим тяжелым молотом пробивает себе путь вглубь — в самые недра жизни и души человеческой». Ибсен продумывал свои драмы До конца: разбивая на нас броню нашего окаменения своей железной киркой творчества, Ибсен каждой репликой своих героев усложняет любое положение жизни, данное им в начале драмы; сначала он выдвигает тот или иной тезис в том общем, нам всем знакомом виде, в каком дан этот тезис в катехизисе любого мировоззрения: перед нами — неотесанная глыба, где еще нет жизни; далее начинается ряд перекрестных сцен, сопровождаемых градом реплик, сыплющихся на тезис, как частые удары кирки: первоначальная глыба становится все полногранней, и, наконец, из многих жизненных граней начинает выступать подлинно живой, бесконечно сложный контур, а мы недоумеваем: «В жизни этого нет». Вернее, не в жизни, а в футляре, в который стремятся забить жизнь городовые от догматизма. В этом отношении справедливо указывает Бьернсон на целесообразность и глубокую продуманность ибсеновских реплик, так часто поражающих наш догматизм своею парадоксальностью: «Он (Ибсен) — величайший мастер в смысле построения своих пьес. Возьмите „Дикую утку“. Там ни одной лишней реплики, каждое слово имеет свою цель. Настоящее чудо искусства». Но что, по мнению Бьернсона, является чудом искусства, то, по мнению наших критиков еще вчера объявлялось бессмыслицей. Вот как характеризует Ведель отношение к Ибсену многих датчан: «Ибсен слишком тяжел. Ибсен слишком холоден и мрачен… Ибсен слишком туманен, — говорят люди, которые неохотно отваживаются забираться в такие глубокие места, где уже не видно дна. Простой здравый смысл подымает на дыбы против Ибсена многих… писателей-реалистов… Ибсен такой сухой, угловатый… Ибсен слишком спокоен, почти безжизнен… Безупречен в смысле техники… Недостаточно артистическая натура»… Таков заряд обвинений против Ибсена; заряд обвинений не умолк и по сю пору. Но что можно сказать против? Ибсен тяжел — да, тяжело разбивает киркой футляр нашей успокоенности этот рудокоп духа; холоден, мрачен — в подземных глубинах нашей земли холодно: да, он холоден; в подземных глубинах нет света дня: да, он мрачен. В его глубине часто не видно дна, что возразить против этого? Прилив его творчества уносит в «неизмеримость темных волн»: все это верно. Простой здравый смысл вооружается против Ибсена: но здравого смысла у жизни нет, как нет его и у современности, где утончение научного, философского, общественного и религиозного смысла лишает этот смысл догматической «здравости», т. е. боязни заглянуть глубоко в себя и вокруг себя. Ибсен спокоен и сух: его спокойствие — земляная кора, под которой глухо грохочет вулкан: обычное для него спокойствие первых трех-четырех актов разрывается взрывом последнего акта, который заставляет его героев проделывать безумия, пугающие здравый смысл; лед его сухости, расплавленный безумием, низвергается тогда гремящим бурным потоком на нашу благополучную «влажность» жизни. Ибсен безжизнен — но крайние степени жара и холода вызывают анестезию чувств; безжизнен, потому что слишком велик размах его жизненности для наших, едва уловимых движений жизни: у нас часто не оказывается органов восприятия для Ибсена: они — атрофированы. И, безжизненные, мы жизнь ибсеновского творчества воспринимаем безжизненно. Ибсен безупречен как техник — да, опять-таки да: и виноваты мы сами, если техническая бездарность является для нас условием художественного дарования. «Ибсен недостаточно артистическая натура»; если под артистичностью разумеем мы неврастеническую раздерганность чувств, свойственную столь многим писателям, или актерскую широту натуры, выражающуюся в пьянстве, ношении альмавивы и гимнастике мускулов на сцене для выражения чувств, то Ибсен — натура действительно «не артистическая»; его творчество, как и он сам, безукоризненно; оно, как и он сам. в цилиндре; воистину тупоголовость часто мы называем артистичностью, а темное, низменное нутро чувств (почти чрево) художественной интуицией; такое чрево молчит в творчестве Ибсена.