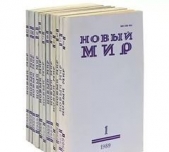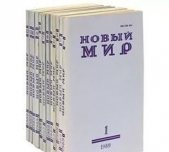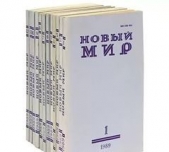Знамя Журнал 8 (2008)

Знамя Журнал 8 (2008) читать книгу онлайн
Знамя» - толстый литературный журнал, издающийся с 1931 года, в котором печатались корифеи советской литературы, а после 1985 г. произведения, во многом определившие лицо горбачёвской перестройки и гласности.Сегодня журнал стремится играть роль выставки достижений литературного хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но прозу и поэзию молодых писателей, которых критика называет будущим русской литературы.http://magazines.russ.ru/znamia/
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вообще пресловутая “непонятность” языка Цветкова, последовательные нарушения некоторых школьных правил (кстати, довольно ограниченные и строящиеся в основном на расширении валентностей синтаксических связей, эллипсисе и нестандартном управлении), намертво связаны с его философией жизни, они - средство, а не цель. Об этом более десяти лет назад точно сказал А. Зорин: “Ощущение невозможности зафиксировать мир в слове при очевидном отсутствии других инструментов такой фиксации приводит автора к осознанному насилию над языком”. Но такое “насилие” не имеет отношения к авангардному стремлению обессмыслить словесный знак - вот уж чего у поэта не было и нет. Цветков - смысловик, причем один из самых радикальных.
Трудно не заметить, что большинство языковых аномалий у него связано с воплощением темы времени. В стихах Цветкова отношения со временем всегда строились напряженно, а в поэзии последних лет градус напряжения только возрос: “время повернуто в оба конца”, прошлое и будущее часто меняются местами или даже сосуществуют. Тогда торжествует, условно говоря, некое всеобщее настоящее. Одни и те же персонажи, существа и предметы могут одновременно действовать в разных хронологических отрезках: “рано выйди на дорогу / солнце медное над ней / там пасёт себе корову / человек вчерашних дней”, “почему на пристань Леты / с детства выданы билеты / почему еще в полете / чайки загодя мертвы”, “уснул и я проснуться в древнем риме”, “мы живы уже или жили тогда но не те”, “можно снова и никогда”, “смотри стекло просверлено насквозь / нить времени проложена подкожно / там предстоит то что давно сбылось / а то что было раньше невозможно” и т.д.
Временной континуум словно разделяется на ряд живых картин. Это мучительно напоминает стремление остановить мгновение средствами грамматики и поэтики. Иногда подобное приводит к почти безглагольному типу письма, к атемпоральности: “дробная россыпь черных грачей в ландшафте / или людей впереди один на лошадке”, “стрекот ходиков скорей / стриж в лазури лихо / после ловли пескарей / сбор ботвы и лыка”, “осины у ворот их медленное стадо / из земноводных уз зеленый водолаз / им невдомек пока что умирать не надо / когда стоит любовь как полынья до глаз”.
Сам поэт, объясняя такой эффект в своих стихах, сказал: “Время для меня очень важная материя, мне кажется, все наши несчастья заключены в нем, тогда как на самом деле его, может быть, нет вообще. Так считал Альберт Эйнштейн, так считал Курт Гедель. Вообще все религии пытаются как-то решить загадку времени, которой, быть может, не существует. Но, конечно, поэзия может только поднимать шум, чтобы привлечь внимание полиции, сама она ни заменить религию, ни стать ею не может”.
И грустно-ироничная строка “что мне вергилий или я ему” - в сущности, тоже о парадоксах времени. Здесь не просто остроумное переосмысление гамлетовской сентенции, а напоминание, что классики, как заметил М. Гаспаров, писали не для нас - мы все читаем чужие письма. Нет, не от “головы” идет Цветков при всем своем гиперинтеллектуализме - от “живота”.
Пожалуй, вот здесь-то действительно можно нащупать суть некоторых изменений в его мироощущении. Прежде тема страха перед Танатосом, столь важная для многих художников, решалась у него так: не страшно, что жизнь конечна, - само по себе это ни хорошо и ни плохо, - ужас и отвращение вызывает только то, что она может быть реализована без какой-либо рефлексии и понятий о чести, долге и чувстве собственного достоинства: “Оскудевает времени руда. / Приходит смерть, не нанося вреда. (…) / Поет гармонь. На стол несут вино. / А между тем все умерли давно, / Сойдясь в застолье от семейных выгод / Под музыку знакомых развозить, / Поскольку жизнь всегда имеет выход, / И это смерть. А ей не возразить. // Возьми гармонь и пой издалека / О том, как жизнь тепла и велика, / О женщине, подаренной другому, / О пыльных мальвах по дороге к дому, / О том, как после стольких лет труда / Приходит смерть. И это не беда”.
У Цветкова страх исчезновения своего “я” всегда был едва заметен. В его поэзии чувство ужаса перед небытием уступает вполне античному по духу страху утраты комплекса добродетелей, который в Древнем Риме принято было называть virtus, что условно можно перевести как “гражданское мужество”, чувство, позволяющее “сладостно и почетно”, как писал Гораций, умереть за общее дело - “dulce et decorum est pro patria mori”. Для римского гражданина такое общее дело - идея государства, верность духам предков и домашнему очагу, для современного русского поэта - русская поэзия: “Но я не духовные гимны - / Военные песни пою, / И строки мои анонимны, / Как воины в смертном бою”.
Тема античности у Цветкова, тесно переплетенная с темой смерти, в прежнее время была одной из ведущих. Античность в его понимании бесконечно далека от нашего типа сознания и столь же бесконечно выше нравственной парадигмы современности. Грекам и римлянам не нужно мучительно преодолевать идею смертности, поскольку основания подобной фобии - ощущения отъединенности и одиночества личности у древних еще попросту нет. Отсюда и откровенное пренебрежение поэта к так называемому “самовыражению”. Не самовыражение, а самораскрытие есть подлинно творческий акт, где личность меньше всего занята собой и более всего - Единым, ибо стремится понять и выразить смысл своего существования во всеобщем бытии.
История поэтом почти всегда понималась не столько как фиксация приобретений, сколько перечень утрат. Рушатся великие цивилизации, исчезают разрабатываемые веками сложнейшие представления о чести и долге, искажаются факты, и в конечном итоге малообразованный современник имеет дело с удобным и съедобным меню мифов и дней минувших анекдотов.
В эссе “Futurum imperfectum”, посвященном личному восприятию античности, Цветков писал: “Ученую беседу, то есть тусовку, давно не украшают цитаты из Вергилия или Гомера - иногда мелькнет Менандр или тот же Публий, но припишут в лучшем случае Максиму Горькому или Жванецкому. Что нам известно о Риме и Греции? Сказать “ничего” - значило бы преувеличить”. И далее - о принципиальнейшей разнице между мировоззрением антиков и современным, то есть об отношении к смерти: “(…) осталось убедить римлян и греков в моральном превосходстве цивилизации, которая уравнивает человека с треской. (…) Человеку известно, что он умрёт. Преклонение перед жизнью - это лицевая, парадная сторона страха. Мы боимся смерти так, как никто до нас не умел бояться, мы возвели этот трепет в нравственный закон, покрыли золотом и резьбой и поклонились ему. По словам Ницше, мы сделали свой порок добродетелью”.
У прежнего Цветкова смерть воспринималась как завершенность, а следовательно, и осмысленность конкретного человеческого существования. Страх смерти есть неосознанная демонстрация непонимания человеком того, что существует только жизнь и ее детали - в том числе и смерть.
Теперь же налицо некоторая смена вех. Уже не до чеканных общих суровых суждений. Изменилось не столько отношение к смерти, сколько к смертным - ныне жалко решительно всех: “день наступает со стороны луны / всех не спасти никого не спасти увы / (…) / боги неправда и смертному не друзья / хочешь люби любого спасти нельзя”. Теперь можно с полным основанием сказать: “доброй ночи свои а чужих не бывает”. Потому так пронзительна сегодня макабрическая тема у Цветкова, что умирает не солипсическое я - каждое мгновение умирает живое. Надежда есть, поскольку биота в принципе вечна, да только в составе ее происходит постоянная ротация, и с каждой конкретной смертью, особенно насильственной, примириться не удается.
И вот такие всеобщие, они же “абстрактные”, представления принимаются героем на удивление близко к сердцу и переживаются с не меньшей лирической интенсивностью, нежели сугубо частные, выношенные и выстраданные эмоции.
Что же получается в итоге - метафизическая поэзия? Трудно сказать. Само это понятие в русской культурной традиции на диво неустойчиво: что только под ним ни подразумевается - и “научная” составляющая, и “философская”, и “религиозная”… Пожалуй, для такой интерпретации поэзии Цветкова в ней слишком много жару. Горячности. Горечи.