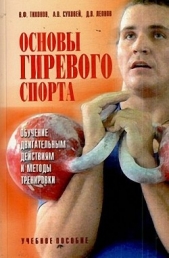Цена жизни

Цена жизни читать книгу онлайн
Бывший чемпион мира по тяжелой атлетике Ю.П.Власов рассказывает о значении физической культуры и спорта, как одного из оздоровительных средств, об отличиях большого спорта от обычного, о взаимоотношениях большого спорта с обществом, о допингах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За час до начала предоперационных процедур я провел сорокаминутную тренировку-разминку. Наотжимался на полу, между спинками кроватей, и выполнил кучу разных упражнений на силу и гибкость. Я прощался с тренировками. Когда смогу теперь погонять себя в работе?.. Будущее не сулило благополучия. Я вообще не верил в будущее.
Я очнулся, куда ни ткнись — боль. И терпи ее, терпи... И еще эта тревога: не предупредил об операции дочь, будет ждать...
Пришла сестра Фредерика, худая, некрасивая, но с добрыми глазами, начала массировать онемевшую руку (руку неловко положили на операционном столе). Я спросил, сколько времени.
— Час дня, — ответила Фредерика после некоторого сомнения.
Я не знаю немецкого и пользовался шпаргалкой, составленной братом. Он владеет немецким, особенно разговорным. Перед отъездом я под его диктовку и составил своего рода маленький разговорник. До сих пор разговорник меня не подводил.
— Вас привезли из операционной сорок минут назад, — понял я из объяснений Фредерики.
Имя любой сестры можно узнать по значку на халате — там имя и должность.
Рука по-прежнему почти не повиновалась, но я сказал:
— Зер гут!
Фредерика ушла. Рука затекла основательно — ее массировали, ожила только утром третьего дня.
Я попытался задремать. Не отпускали боль и мысль о дочери. Я отбросил одеяло и сверхосторожно, пробуя себя на боль, поднялся, помогая здоровой рукой. Посидел, скрючась, и после, так же скрючась, очень медленно встал. Шаркая, маленько прошел по палате, держась возможно ближе к постели. Закружилась голова — «ковырнусь» хоть не на пол. У стола я выпрямился, как позволила боль: терпеть можно, не взбесилась от движений, все тот же огонь ниже лопаток.
Я сел и, преодолевая дурноту от наркоза и других препаратов, медленно, очень медленно принялся писать...
Обернулся на шаги — Баумгартл. Он не стал ничего спрашивать, а разразился бранью и криками, включив сигнал тревоги. Есть такой в палатах. Набежали сестры и уложили меня. Доктор испытал определенное потрясение. Он пришел, дабы проверить, как я выхожу из операционной нагрузки. Я же был доволен: письмо написано. Я даже набрался наглости и попросил доктора опустить его в почтовый ящик.
Возмущаясь, доктор повторял:
— Встать сразу после такой операции! Сколько живу — не помню. Чудовищно, варварство!..
Я это понял из обрывков французских фраз. Доктор в разговорах со мной .прибегал к французскому языку.
Успокоясь, он показал мне титановые пластины, которые были прикреплены к позвоночнику и которые он снял (каждая по 25 см, с винтами — внушительная арматура).
Несмотря на все запреты, я вставал с постели и бродил именно с того дня. А письмо?.. Преодолело двусторонний цензурный путь за четырнадцать дней. Я вынул его из почтового ящика в Москве, как погодя и другие свои письма из Оберндорфа...
Каждый вечер, уже в темноте, звонили колокола. Гулом и звоном наполнялись и та часть городка, что принадлежит Австрии, и та, что уже в Баварии (ФРГ), — единые части маленького пограничного города.
Плывущие в темноте торжественно-печальные звуки, одиночество белой палаты, необъятно-смутный склон белой горы за улочками — я подходил к окну, упирался лбом в стекло и не мог сдержать стона. Ничто не удерживало меня в жизни. Все, что дорого, потеряно навсегда...
В глубинах своего сознания я не сомневался, что не оправлюсь от операции, разовьется лихорадка, как три года назад в ЦИТО, и согнет. Я уже не потяну. И не хочу тянуть...
А случилось нечто непредвиденное... для меня непредвиденное. Мало того, что я встал и написал письмо через сорок минут после более чем четырехчасовой операции. Даже московская лихорадка присмирела. Рана же стремительно затягивалась и жидкостью не исходила. Баумгартл и его коллега по операции доктор Кауцкий не без удивления повторяли:
— Заживает, как на собаке...
Бывает и так. Все наоборот вопреки расчету. И что на одиннадцатый день после операции сам понесу чемодан по вокзалам, я и в самом радужном сне не смел вообразить. А ведь понес... Жизнь как бы вставилась в меня, не спросясь.
День за днем перебирал жизнь в большом спорте. Тяготы, безумный расход себя... Чего ради?..
Сколько же зависти и недоброжелательства пережил я в те годы! И за что? Надрыв тренировок, риск поединков, любая оплошность — травма, порой гибельная, вот как эта... позвоночника. Без природного запаса прочности и желания жить уже не жил бы.
А сами выступления? Поражение или нулевая оценка на чемпионате — и уже опозорены усилия и победы всех лет. Миг поражения — и уже все-все бессмысленно и не нужно. Этот огромный воз постоянно за спиной.
И как же редко одно слово добра — не казенного, воспитанно-вежливого или формально-обязательного, а от сердца.
Я вышел из больницы на двенадцатые сутки,
В самолете я думал: отдам концы — стало совсем худо. Но дотянул. А на другой день мне пришлось несколько часов простоять в таможне и таскать чемодан. Я стоял и думал: двенадцать дней назад был сделан разрез по спине — около десяти сантиметров в глубину и до двадцати пяти по длине. Я был располосован, как селедка. А после лупили молотками по металлическим пластинам, изымая их из позвоночника, лупили четыре часа. А теперь я мотаюсь с чемоданом, боль — аж до пяток. Пройти бы контроль, и скорее домой — лечь...
Итак, более вразумительно о тренировках.
После сентября 1985 года я продолжил обычные тренировки. Я тренировался вплоть до операции, пропустив лишь январь и февраль 1986 года, — восемь недель после операции. Тренировался прилежно, однако чувствовал себя все хуже. Почему? Ведь грамотные тренировки были и остаются наиболее действенным средством восстановления подорванного болезнями и невзгодами организма. Болезнь можно пресечь лекарствами (не всегда, правда), но вернуть таблетками в мышцы сердца и телу энергию, силу, выносливость — никогда...
В чем же дело? Фрэнк Ричардс возрождает себя тренировками, а я, наоборот, от тренировки к тренировке разваливаюсь — и это при моем опыте, в том числе и возрождения себя?!..
Я оправился от последствий операции в Оберндорфе за считанные недели, но лихорадка двинула набирать обороты с новой скоростью. Она заточила меня в доме, и это в самом тяжком упадке духа, когда общение, просто пребывание на людях студили боль хоть чуть, но не разбавляли черноту боли.
Разумеется, я отдавал себе отчет в причинах болезней, но не во всей полноте — это факт.
Предшествующие годы потребовали от меня значительного напряжения. Я собрал себя, обрел устойчивость — тут потерял самого близкого человека, сокрушительное ощущение одиночества и ненужности. Чувство вины — ведь мы не прорвались к свету, долгий переход так и не вывел к успеху книг, признанию, тайне наших мечтаний... Все задвинула могильная плита. Все явилось обманом. Все шаги — бессмысленное стирание себя. Чувство вины наливало меня свинцом. Воздух всех дней мнился отравой. Нет, не жить. Слишком больно — жить.
Это ощущение ненужности жизни, фактический отказ от нее явились следствием и надрыва последних двух десятилетий: мощного расхода себя в спорте мировых рекордов, напряженной литературной работы при фактической блокаде всего, что я писал; грозной болезни конца семидесятых годов и наконец гибели Наташи и нелегкими операциями... В общем, это типичная судьба для наших поколений, ничего необычного. И даже, наверное, литературная работа « в стол» на добрый десяток лет тоже не являлась некой исключительностью, хотя сочинительство это, безусловно, из особых. Не говоря о риске хранения подобных рукописей в то время, они сами по себе являлись гнетом, не бременем, а гнетом.
Писать за счет дохода от другой своей литературной работы (статей, очерков, популярных книг) — не дай бог таких удовольствий, пиши, а после укладывайся с другой книгой, что «в стол», на эти самые деньги и на них же — с новой работой, уже только ради денег, которые снова дадут возможность продолжить главную книгу. Жизнь на удвоенных-утроенных оборотах. И часто ощущение бесполезности работы, ощущение тюремной пустоты — не с кем поделиться, пишешь в какую-то бездну, и молчи, все время молчи об этом... Не способствовало безмятежности настроения и чувство бесполезности работы, вообще всех устремлений. Кому это нужно?.. В часы упадка духа это настроение буквально брало за горло. И в самом деле, рукописи изживали себя в столе. В них — находки, страсть, краски и кровь судеб. За ними — надрыв двойной жизни, усталость, преодоление отчаяния, вера, а они, рукописи, лежат... И рост мастерства без публикаций оказывался невозможным. И годы... Я тоже старею. Правды ради, больше всего от тесноты замкнутого пространства вокруг... Пишу — и ничто не меняется в жизни. Точили мысли о том, что рукописи могут не увидеть свет, а стало быть, все тогда бесполезно: не исполнение своего назначения в жизни, а какое-то бессмысленное кривлянье и еще сверхизнурительный труд: на что, зачем, к чему?!