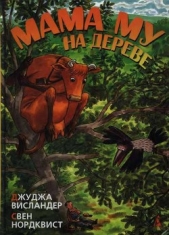В июне тридцать седьмого...

В июне тридцать седьмого... читать книгу онлайн
«После перерыва в Георгиевском зале в качестве «гостей» Пленума появились все руководители НКВД (Ежов сидел в президиуме): Фриновский, Курский, Заковский, Бельский, Берман, Литвин, Николаев-Журид. На Соборной площади в переходах и тупиках Кремля возникла, как из-под земли, целая армада оперативных работников государственной безопасности… После того как Пленум ЦК «закончил свою работу», заговорщики, оставшиеся в зале, были арестованы».
И. Минутко
Роман Игоря Минутко рассказывает о жизненном пути пламенного революционера-ленинца, в дальнейшем крупного партийного и государственного работника, наркома здравоохранения РСФСР Григория Наумовича Каминского. В июне 1937 года он был одним из участников так называемого «заговора за чашкой чая», когда группа партийных работников во главе с Пятницким решила выступить на Пленуме с критикой сталинской коллективизации в деревне и против репрессий. Все заговорщики были арестованы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иван арестован... Но ведь арест революционера всегда возможен, он как бы присутствует подспудно в его судьбе.
«И меня могут арестовать», — с внезапным холодком в груди подумал Григорий Каминский.
Удивительное дело! Он знал об арестах, постоянно случавшихся среди минских социал-демократов. Но почему-то казалось, что с ним-то этого не произойдёт, он всегда улизнёт от полиции и жандармов. Илья Батхон постоянно внушал ему: «Революционное дело — не игра. Зря никогда не рискуй. Постоянная бдительность, предельная конспирация. Мы имеем дело с опытным и умелым противником». Григорий в душе не соглашался: откуда в полиции и у жандармов умные люди? И — сейчас он признавался себе в этом — во всём, что он делал по поручению партии, были элементы азартной, захватывающей игры.
«Нет, это не игра, — думал он сейчас, покачиваясь в извозчичьем тарантасе, вёзшем его в Сосновицы. Прозрачный берёзовый лес ещё в молодой листве стоял по бокам дороги, рябея бело-серыми стволами. — Это не игра... Трижды арестовывался Батхон, бежал из сибирской ссылки Стефан Любко (каким же он оказался замечательным парнем!), дядя Алексей, оказывается, еле-еле ускользнул от ареста в одиннадцатом году, срочно выехав с семьёй, можно сказать, бежав из Екатеринослава, для полиции — «в неизвестном направлении». А брат Иван? Ведь сколько раз он уходил от, казалось бы, неминуемого ареста. Почему я серьёзно не задумывался об этом?..»
Григорий стал вспоминать о случае, происшедшем в прошлом году. Когда всё было позади, сам Иван за семейным столом рассказывал об этом шутливо, легко. Все смеялись, и он, Григорий, тоже. Только мама молчала, хмурилась.
...Иван работал на заводе Тульчинского, на закалке пружин. Однажды он и несколько его товарищей социал-демократов проводили прямо в цехе во время обеденного перерыва беседу с рабочими. Речь, конечно, шла «о политике». Говорили о варварском расстреле рабочих на Ленских приисках. Судя по всему, нашёлся доносчик: внезапно на заводе появились конные казаки, оцепили его плотной стеной, началась паника, рабочие бросились врассыпную. Иван тоже выбежал из цеха. Как потом выяснилось, искали именно его. Иван заскочил в рабочий двор — казаки были где-то рядом, слышался цокот копыт, лошадиный храп, выкрики. Перед Иваном была уборная, и он нырнул туда. Казаки обыскали цех, рабочий двор, все сараи, заглянули в уборную — и никого не обнаружили. Иван, оказывается, ухватился руками за балки и, упёршись ногами в выступ, висел над выгребной ямой.
Да, полиция давно охотилась за старшим братом Григория Каминского и вот настигла его.
...Впереди показались в зелени садов красные черепичные крыши, замаячили две высокие колокольни католического костёла. На перекрёстке шоссе с просёлочной дорогой под деревянным навесом с крестом стояла скорбная фигура Матери Божией, и перед ней мерцали огоньки нескольких свечей. Сосновицы...
Дома он сразу попал в объятия заплаканной матери и ужаснулся переменам, которые обнаружил в ней. Ведь в этом году Екатерине Онуфриевне исполнится только сорок пять лет, а его обнимала старая поблекшая женщина, совершенно седая, со скорбными складками у рта, глаза лихорадочно, странно блестели, она ничего не могла говорить.
Наум Александрович держался молодцом, всё такой же широкоплечий здоровяк с бравыми усами, только, заметил Григорий, погас взгляд, нет в нём прежнего задора и веселья.
— Свидания не дают? — спросил Гриша отца, когда они остались одни.
— Не дают.
— Где он сейчас?
— Через знакомого, у него сын в местной тюрьме работает, узнали: пока Иван здесь. Но вроде бы собираются отправить в Минск, и суд будет там, закрытый...
— Постараюсь сегодня же узнать все подробности у местных товарищей, — сказал Григорий. — Наверное, в тюрьме содержится ещё кто-нибудь из социал-демократов. Что-нибудь придумаем, отец! Но вот как быть с мамой?
— Прямо не знаю, Гриша, — вздохнул Наум Александрович. — Одно заметил: когда вспоминаем с нею Ваню, всякие ваши проделки, шалости, ей становится лучше, утешается. Даже, бывает, забудется и смеётся. Редко в последнее время я слышу её смех.
Теперь, когда семья собиралась за столом, все наперебой начинали вспоминать всякие забавные истории, происходившие с Иваном, украдкой поглядывая на Екатерину Онуфриевну.
— Помните, — начинает Клава, — лет пять или шесть назад, какой Ваня с Гришей устроили переполох в первый день Пасхи?
— Что-то на ум нейдёт, — неуверенно говорит Екатерина Онуфриевна, но уже в ней проснулся интерес, в глазах засветилось ожидание.
— Да как же! — продолжает Клава. — Отрезали у двух папиных шляп поля, напялили их на самые глаза, нарисовали себе усы, приклеили бороды, закутались в какие-то плащи и прямёхонько явились в столовую, ну вроде бы служители церкви. А в столовой были одни мы, девочки. И представляете!
Мы совсем не узнали братьев. Они же, охальники, поздравили нас с Пасхой, на красный угол старательно перекрестились, освятили стол, сели, закусили как следует и удалились. А через некоторое время настоящий священник пришёл. Мама, да вспомни! Мы — к тебе, говорим: у нас уже были из церкви. А батюшка всё слышит...
— Вспомнила, вспомнила! — уже улыбается Екатерина Онуфриевна. — Я тогда батюшку Кондрата Платоновича еле за стол усадила!
— А помните ещё? — включается в разговор Наум Александрович. — На Рождество что шалопаи наши сотворили? У нас полон дом гостей, а Ваня и Гриша прокрались в переднюю и у всех пальто рукава зашили.
— Было, было! — смеётся Екатерина Онуфриевна. — И когда гости собрались уходить, какой переполох поднялся! А бедная Мария Станиславовна Цимбаловская! Помните? Она дама тучная, стала в своё пальто залезать, рукава не пускают, она и завалилась от испуга на пол. И смех и грех...
— Я ещё вспомнила! — хохочет Клава. — В день крестин Володи... Или забыли?
— Что же такое было? — говорит Наум Александрович, поглядывая на жену.
— А вот и было! — хлопает в ладоши Клава. — Ваня и Гриша знатной парой нарядились и здрасьте-пожалте! — поздравлять заявляются! Иван — важный господин, приклеенные усы нафабрены, шляпа набекрень, сюртук модный. И откуда он его взял? Ведёт господин даму, под руку осторожно держит. Дама в длинном платье до пят, вся в завитых белых локонах, вовсю задом виляет. И дама сия — Гриша!
— Правильно! Вспомнил! — говорит Наум Александрович. — Я ещё подумал, на эту пару глядючи: кто же такие? Вроде незнакомые. Направляюсь к ним, думаю: сейчас познакомимся. А дама подол своего платья подхватила, господин шляпу в руки, чтоб с головы не упала. И как они дунули! Вмиг след простыл!
Теперь за столом смеются все.
— А помнишь, Клава, — спрашивает Григорий, — какой мы с Ваней однажды маскарад устроили? В беседке?
— Помню, помню!
— Мы в саду в беседке играли, — рассказывает Клава. — И вдруг заявляются два городовых! Все ребята от испуга разбежались. Городовые, конечно, наши братики. Собрали они нас снова, прикатили пустую бочку, по очереди взбирались на неё — и давай речи произносить!
— Про что речи? — спрашивает Наум Александрович.
Григорий поднимается из-за стола, выпячивает живот, вытаращивает глаза и хриплым голосом говорит:
— Господа! Мы, жандармы, значица, дубины стоеросовые и обжоры. Нас необходимо, значица, свергать! Господа, мы призываем вас к свержению жандармов, значица, с престола этой бочки!
Снова все смеются...
Однако только за семейным столом во время подобных воспоминаний оживлялась совсем ненадолго Екатерина Онуфриевна. В остальное время была она задумчива, рассеянна, плохо спала, совсем лишилась аппетита, ходила по комнатам бесцельно, как в воду опущенная.
Как-то раз Григорий застал её за странным занятием: она, открыв шкаф, перебирала детские вещи Ивана, рубашки, трусики, рукавички, ласково гладила их, целовала и плакала.
Он сказал отцу:
— Надо бы маму увезти куда-нибудь, хоть ненадолго. Все ей тут Ивана напоминает. Отвлечь бы.