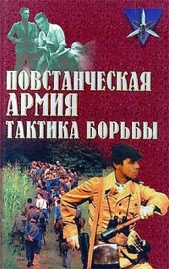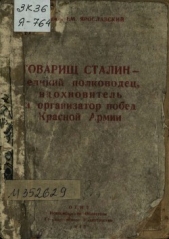Сталин и писатели Книга четвертая
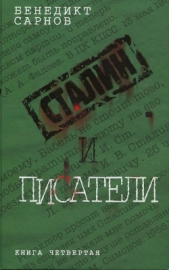
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот он — социальный генезис предательства Стаховича. Имя этой социальной среды, которая его сформировала, — номенклатура.
Слово это Фадееву наверняка было знакомо. Но он, конечно, не вкладывал в него тот смысл, какой вкладываем в него сегодня мы, давно уже прочитавшие книгу Михаила Восленского — «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» (Overseas Publications Interchange Ltd/ London. 1990), а еще раньше — книгу Милована Джиласа «Новый класс». Но кое-что про этот «новый класс» Фадеев уже понимал (тем более что и сам к нему принадлежал). И следы этого понимания довольно ясно проглядывают в только что прочитанном нами тексте:
► ...он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и привык считать, что искусство власти состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей.
При этом, конечно, предполагается, что все это — только внешняя сторона явления, за которой юный Стахович — отчасти по недомыслию, отчасти в силу своей испорченности — не видит
► ...истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался... Истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера...
Но все эти извилистые оговорки не меняют сути дела. Суть же эта состоит в том, что Стахович так же классово чужд Олегу Кошевому, Уле Громовой, Любке Шевцовой и Сережке Тюленину, как Мечик — Морозке, Метелице и другим партизанам, среди которых волею обстоятельств он оказался.
К такому «ответу» Фадеев пришел самостоятельно. Он искренне считал его правильным, а потому не видел ничего зазорного в том, чтобы подгонять под этот, заранее известный ему ответ всё «решение задачи».
Так же обстояло дело и с другим, главным «ответом».
Из документов, которые были ему вручены комиссией ЦК ВЛКСМ, с несомненностью следовало, что никто юными подпольщиками не руководил. Коммунисты, оставленные в Краснодоне для подпольной работы, сразу же провалились. Что поделаешь! Так случилось. Против правды не попрешь.
Этот ответ он искренне считал правильным. Но оказалось, что правильным надлежит считать совсем другой ответ.
Конечно, он был этим слегка обескуражен. Но и сомневаться в правильности этого нового ответа, к которому ему теперь предстояло подгонять свой роман, он не мог. Известно ведь, КЕМ этот новый ответ был ему подсказан.
► Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы — о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»
Механизм подгонки решения к заранее известному ответу, как мы теперь уже знаем, был усвоен и разработан им давно. Так не все ли, в конце концов, равно — тот или этот ответ считать правильным? Сталину виднее, он лучше знает.
Именно это имел я в виду, говоря, что Фадеев не врал, уверяя Д. Бузина, что за переделку романа он взялся охотно.
Не следует, однако, думать, что эта переделка далась ему легко и что роману при этом не был нанесен весьма существенный урон.
Первый вариант «Молодой гвардии» своим появлением на свет тоже был обязан Сталину. На этот раз, правда, не прямо, а косвенно. В отличие от второго варианта он не был Фадееву Сталиным заказан, но именно Сталин создал ситуацию, в которой этот фадеевский роман только и мог быть написан.
ЦК ВЛКСМ предложил Фадееву написать книгу о краснодонском комсомольском подполье в августе 1943 года. Фадеев принял это предложение, поехал в Краснодон, к материалам, собранным специальной комиссией ЦК ВЛКСМ, добавил и свои собственные и вернулся в Москву, пребывая в полной уверенности, что в сравнительно короткий срок, без отрыва от своих главных обязанностей выполнит этот «социальный заказ комсомолии».
Но он никогда не выполнил бы его — во всяком случае, в той романной форме и том объеме, в каком он это осуществил, — если бы не то, что в ноябре того же года Сталин, гневно отреагировав на какой-то очередной донос, вдруг не отправил его в отставку. Это были те самые два года, на которые Фадеев был отстранен от руководства Союзом писателей и заменен Н. Тихоновым. Именно за эти два года он и создал свой роман.
Десять лет спустя он вспоминал об этой своей отставке как о милостиво дарованном ему благодеянии.
► Если бы в 1943 году я не был освобожден от всего, не было бы на свете романа «Молодая гвардия». Он смог появиться на свет, этот роман, только потому, что мне дали возможность отдать роману всю мою творческую душу.
Но осенью 43-го он воспринял эту свою отставку как тяжелейший удар и поначалу пребывал в глубочайшей депрессии, от которой его спасла, из которой вытащила вошедшая к тому времени уже в новую фазу работа над романом.
► ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА М.И. АЛИГЕР
21 ноября 1944 г.
Роман, который и вообще-то в последний месяц, в силу обострившегося душевного противоречия и полной невозможности для меня — в силу характера моего — жить в душевном противоречии, почти не двигался, — роман теперь и вовсе отодвинулся куда-то...
И я поступил так, как только и мог поступить в этих обстоятельствах: я сел писать. Дело в том, что, как бы ни складывалась моя жизнь, каким бы я сам ни выглядел перед Богом и людьми, это самое настоящее, большое, правдивое, сильное, глубоко сердечное, что я могу делать для людей. И я должен был преступить через все и прежде всего делать это, чтобы это не погибло в душе моей и для меня, и для людей. Я знал и знаю это теперь, что, может быть, я вообще должен был жить иначе, чем складывалась моя жизнь до сих пор, что, очевидно, в конкретной ситуации я тогда мог и должен был еще что-то сделать и сказать.... но я лично только запутаюсь душой и погибну в том противоречии, в каком я живу, если я не преступлю через него и не начну писать. И я стал писать. И что бы там ни думали обо мне люди и что бы я, действительно, ни сделал в своей жизни дурного, я счастлив, что я нашел в себе силы поступить именно так...
Моя работа, общественное и моральное значение которой я теперь сам не имею права недооценивать, эта моя работа по многу часов в день (в известной отрешенности от семейных проблем и обстоятельств), наедине с природой и Господом Богом, прежде всего сказала мне, что в моей жизни я всегда и главным образом был виноват перед ней, перед работой. Всю жизнь, в силу некоторых особенностей характера, решительно всегда, когда надо было выбирать между работой и эфемерным общественным долгом, вроде многолетнего бесплодного «руководства» Союзом писателей, между работой и той или иной семейной или дружеской обязанностью, между работой и душевным увлечением, между работой и суетой жизни, — всегда, всю жизнь получалось так, что работа отступала у меня на второй план. Я прожил более чем сорок лет в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту, в том неуважении к нему, которое так осудил Чехов в известном письме к своему брату.
Как ни странно это, но от сознания своих слабостей, недостатков, дурных поступков я часто чувствовал и чувствую себя виноватым перед Богом и людьми, но я никогда не чувствовал самой главной и самой большой не только в личном, но в общественном, даже государственном смысле своей вины — вины перед своим талантом, который не мне принадлежит.