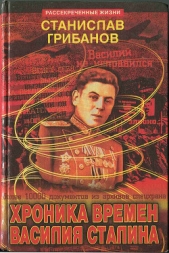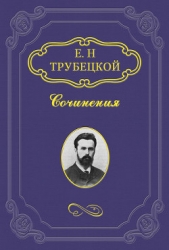Сталин и писатели Книга первая

Сталин и писатели Книга первая читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каково в последние годы жизни Сталина было отношение Пастернака к «Благодетелю», мы вроде уже знаем.
Вряд ли откровения хрущевского доклада добавили к тому, что он знал и думал о Сталине, что-нибудь новое.
Б.Л. читает характеристику Макбета. Я рассказываю ему, как однажды в разговоре о процессах 1936— 1938 годов В.Э. Мейерхольд сказал: «Читайте и перечитывайте «Макбета»!..»
Б.Л. охает, замолкает, потом говорит:
— Нет, не будем об этом. Это слишком страшно… — Помолчав. — Вот видите, какой живой этот великан Шекспир. Он нам внушает ассоциации, от которых страшно…
Эти ассоциации возникали тогда не у одного Мейерхольда
Разве не о том же — с достаточной степенью внятности — сказала Ахматова:
Стихотворение называется «Лондонцам» и говорит оно как будто — так, во всяком случае, уверяют комментаторы, — о британцах, переживающих налеты и бомбардировки гитлеровской авиации. Но это — для маскировки. Подлинный адрес стихотворения сомнений не вызывает. Не лондонцы, а именно мы — «участники грозного пира», переживающие не написанную Шекспиром двадцать четвертую драму, которая стократ страшнее всех двадцати трех его трагедий и которую «уже мы не в силах читать».
Степень ясности этого ахматовского иносказания не менее очевидна, чем степень прозрачности другого ее намека;
Стихотворение про двадцать четвертую драму Шекспира Ахматовой удалось напечатать в «Избранном» 1943 года. (Маскировка удалась.) А о публикации этого стихотворения она решилась заговорить только в 1956-м. Но даже и тогда сразу же от этой попытки отказалась:
Анне Андреевне очень хотелось дать «Стансы». Мне, разумеется, тоже… Сначала голос хоть и трагический, но величавый и спокойный, а потом вдруг, при переходе во второе четверостишие, удар неистовой силы. Вру, не «при переходе», а без всякого перехода, как удар хлыстом: «В Кремле не надо жить»…
А в последних двух строках — полный и точный портрет Сталина…
— Как вы думаете, все догадаются, что это его портрет, или вы одна догадались? — спросила Анна Андреевна.
—Думаю, все.
— Тогда не дадим, — решила Анна Андреевна. — Охаивать Сталина позволительно только Хрущеву.
Тем не менее она была рада, что настало время, когда Сталина уже позволено было охаивать — хотя бы только и одному Хрущеву.
А вот Пастернак почему-то не был этому рад.
Что же это? Может быть, минутное раздражение? Или впечатление от самоубийства Фадеева заслонило от него все другие тогдашние его впечатления?
Тут надо сказать, что, пожалуй, не меньше, чем первая строка этого стихотворения, поражает последняя его строка, в которой слышится прямое сочувствие тем, кто «стреляются от пьянства, не в силах этого снести». Хотя застрелился Фадеев, как мы знаем, отнюдь не «от пьянства», а совсем по другим причинам. И наше сочувствие застрелившемуся было бы куда сильнее, если бы он застрелился тогда, когда ему по должности приходилось подписывать согласие на аресты бывших друзей, а не тогда, когда они вдруг стали возвращаться «с того света». (Ходили слухи, что один из вернувшихся, бывший его дружок и соратник по РАППу — критик Иван Макарьев плюнул ему в лицо при встрече).
Конечно, это странное стихотворение Пастернака отражает и вполне конкретное, «сиюминутное» состояние души поэта, под воздействием которого оно родилось. Но — не только это.
В истоках этой его загадочной душевной реакции лежали и другие, гораздо более глубокие и прочные основания.
14 марта 1953 года, то есть через пять дней после похорон Сталина, Пастернак писал Фадееву:
Дорогой Саша!
Когда я прочел в «Правде» твою статью «О гуманизме Сталина», мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе.
Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, существом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа.
Каждый плакал теми безотчетными и неосознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и увлажило тебе лицо и пропитало собою твою душу.
А этот второй город, город в городе, город погребальных венков, поднявшийся на площади! Словно это пришло нести караул целое растительное царство, в полном сборе явившееся на похороны.
Как эти венки, стоят и не расходятся несколько рожденных этою смертию мыслей.
Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!
Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако, как быстро проходила у многих эта горячка.
Но каких безмерных последствий достигают, когда не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установлению порядка, в котором это зло было бы немыслимо, невозникаемо, неповторимо!
Прощай. Будь здоров.
Твой Б. Пастернак.
Прочитав это письмо (впервые оно было напечатано в 1996 году в журнале «Континент», тогда же я его и прочел), я был изумлен до крайности.
Я вспомнил, что меня, когда я увидел мертвого Сталина, тоже больше всего поразили его руки. Но думал я при этом не о том, что они «исполнены мысли», и не о том, что они «впервые отдыхают». До корней волос пронзило меня, что эти небольшие, короткопалые, покрытые редкими рыжеватыми волосками руки еще недавно держали в своих чуть припухлых ладонях судьбу целого мира. И, само собой, мою судьбу тоже. И тут же явившаяся мысль, что эти страшные руки уже наконец мертвы, что они, как выразился поэт, «впервые отдыхают», а значит, ничего больше не могут со мной сделать, эта утешительная мысль сразу убрала холодок, леденивший мою спину.
Я, правда, в отличие от Бориса Леонидовича, эти сталинские руки увидал не в те похоронные дни, а позлее, когда Сталин лежал уже не в гробу, а в стеклянном ящике, в Мавзолее. Но об этом я тогда не подумал. Подумал: какими разными глазами мы глядели на эти «впервые отдыхающие» руки и как разительно отличается то, что чувствовал, глядя на них, я, от того, что чувствовал он.