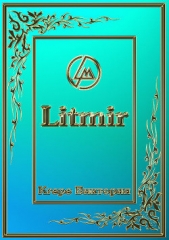Не мир, но меч

Не мир, но меч читать книгу онлайн
В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д.С.Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Пушкина жизнь стремится к поэзии, действие к созерцанию; у Лермонтова поэзия стремится к жизни, созерцание — к действию.
На первый взгляд может казаться, что русская литература пошла не за Пушкиным, а за Лермонтовым, захотела быть не только эстетическим созерцанием, но и пророческим действием — «глаголом жечь сердца людей».
Стóит, однако, вглядеться пристальнее, чтобы увидеть, как пушкинская чара усыпляет буйную стихию Лермонтова.
В начале — буря, а в конце тишь да гладь. Тишь да гладь — в созерцательном аскетизме Гоголя, в созерцательном эстетизме Тургенева, в православной реакции Достоевского, в буддийском неделании Л. Толстого. Лермонтовская действенность вечно борется с пушкинской созерцательностью, вечно ею побеждается и сейчас побеждена как будто окончательно, раздавлена.
Вот одна из причин того, что о Пушкине говорили много и кое-что сказали, о Лермонтове говорили мало и ничего не сказали; одна из причин того, что пушкинское влияние в русской литературе кажется почти всем, лермонтовское — почти ничем.
Другая причина того же указана в статье Вл. Соловьева о Лермонтове, недаром предсмертной — как бы духовном завещании учителя ученикам.
«Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий (тут упоминание о действенности чрезвычайно важно), которое для краткости можно назвать „ницшеанством“. Глубочайший смысл деятельности Лермонтова освещается писаниями его ближайшего преемника Ницше».
Сверхчеловечество, по мнению Вл. Соловьева, есть не что иное, как ложно понятое, превратное богочеловечество. Лермонтов не понял своего призвания «быть могучим вождем людей на пути к сверхчеловечеству» истинному, т. е. к богочеловечеству, к христианству, и потому погиб. Христианства же не понял, потому что не захотел смириться. А «кто не может подняться и не хочет смириться, тот сам себя обрекает на неизбежную гибель».
В 1840 году в черновом отпуске полковой канцелярии при штабе генерал-адьютанта Граббе, отправленном в Петербург на запрос военного министра о поручике Лермонтове сказано: «Служит исправно, ведет жизнь трезвую и ни в каких злокачественных поступках не замечен».
Полковой писарь оказался милосерднее христианского философа. В посмертном отпуске Вл. Соловьева вся жизнь Лермонтова — непрерывная цепь «злокачественных поступков».
«С детства обнаружились в нем черты злобы прямо демонической. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, осыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Взрослый Лермонтов совершенно так же вел себя относительно человеческого существования, особенно женского. И это демоническое сладострастие не оставляло его до горького конца. Но с годами демон кровожадности стал слабеть, отдавая бóльшую часть своей силы своему брату, демону нечистоты», — того, что Вл. Соловьев называет «свинством». Эротическую музу Пушкина сравнивает он с ласточкой, которая, пролетая над грязною лужей, не задевает ее крылом и «щебечет что-то невинное»; «порнографическую» музу Лермонтова — с «лягушкой, прочно засевшей в тине». Здесь любопытно это общепринятое побивание Лермонтова Пушкиным: одному все прощается, другому каждое лыко в строку.
Наконец, к первым двум демонам присоединился главнейший и сильнейший демон гордости, так что в душе его «завелось целое демоническое хозяйство». Все доброе, но слишком слабое, что у него еще было, — несколько «субъективных усилий» в борьбе с демонизмом — заглохло окончательно, и он безвозвратно устремился к погибели.
Дуэль с Мартыновым — «этот безумный вызов высшим силам» — была последним и самым «злокачественным поступком» Лермонтова. «Бравый майор Мартынов», как называет его Вл. Соловьев, или попросту «Мартышка», как называл его Лермонтов (это в самом деле «мартышка», обезьяна Лермонтова, то же для него, что Грушницкий для Печорина, Смердяков для Ив. Карамазова), оказался орудием небесной кары за бесовскую «кровожадность», бесовское «сладострастие» и бесовскую «гордыню» Лермонтова. И небесное знамение подтвердило праведную месть: «в страшную грозу, при блеске молнии и раскатах грома перешла эта бурная душа в иную область бытия».
Конец Лермонтова у Вл. Соловьева напоминает конец Фауста. Потомок шотландского чернокнижника Фомы Лермонта и предок немецкого антихриста Ницше не мог иметь иного конца.
«Конец Лермонтова и им самим и нами называется гибелью, — заключает Вл. Соловьев. — Выражаясь так, мы не представляем себе, конечно, театрального провала в какую-то преисподнюю, где пляшут красные черти». Оговорка дела не меняет: какого бы цвета ни были черти, нет сомнения, что Вл. Соловьев Лермонтова отправил к чертям. Он дает понять, что конец его не только временная, но и вечная гибель.
Над поэтом произносится такой же беспощадный приговор, как над человеком.
«Осталось от Лермонтова несколько истинных жемчужин поэзии», затерянных в навозной куче «свинства», в «обуявшей соли демонизма, данной на попрание людям, по слову Евангелия; могут и должны люди попирать эту обуявшую соль с презрением и враждою, конечно, не к погибшему гению, а к погубившему его началу человекоубийственной лжи».
Спасти Лермонтова от вечной погибели нельзя; но, чтобы «хоть сколько-нибудь уменьшить ужас, на который он обречен и который неизмеримо ужаснее „пляшущих красных чертей“, мы должны „обличать ложь воспетого им демонизма“, т. е. ложь всей лермонтовской поэзии, чья сущность, по мнению Вл. Соловьева, и есть не что иное, как демонизм, превратное сверхчеловечество.
О. Матфей советовал Гоголю сжечь свои писания; Вл. Соловьев почти то же советует нам сделать с писаниями Лермонтова.
В этом приговоре нашла себе последнее выражение та глухая ненависть, которая преследовала его всю жизнь.
Добрейший старичок Плетнев, друг Пушкина, называл Лермонтова „фокусником, который своими гримасами напоминал толпе Пушкина и Байрона“. Современный присяжный поверенный Спасович утверждает, что Лермонтову „можно удивляться, но любить его нельзя“. Достоевский, так много сказавший о Пушкине, ни слова не говорит о Лермонтове, которому в мистике своей обязан едва ли не более, чем Пушкину, а единственный раз, когда вспомнил о Лермонтове, сравнил его с „бесноватым“ Ставрогиным по силе „демонической злобы“: „В злобе выходил прогресс даже против Лермонтова“. Пятигорские враги поэта, натравливая на него Мартынова, говорили, что пора „проучить ядовитую гадину“. Одна „высокопоставленная особа“, едва ли не император Николай I, узнав о смерти Лермонтова, вздохнула будто бы с облегчением и заметила: „Туда ему и дорога!“ — а по другому, не психологически, а лишь исторически недостоверному преданию, воскликнула: „Собаке собачья смерть!“
Таким образом, Вл. Соловьев нанес Лермонтову только последний, так называемый „милосердный удар“, coup de grâce. Мартынов начал, Вл. Соловьев кончил; один казнил временной, другой — вечной казнью, которую предчувствовал Лермонтов:
Казнь свершилась, раздавлена „ядовитая гадина“; лучезарному Аполлону-Пушкину принесен в жертву дионисовский черный козел — козел отпущения всей русской литературы — Лермонтов.
Откуда же такая ненависть?
„Смирись, гордый человек!“ — воскликнул Достоевский в своей пушкинской речи. Но с полной ясностью не сумел определить, чем истинное Христово смирение сынов Божиих отличается от мнимо христианского рабьего смирения. Кажется, чего другого, а смирения, всяческого — и доброго и злого, — в России довольно.
Смирению учила нас русская природа — холод и голод, русская история — византийские монахи и татарские ханы, московские цари и петербургские императоры. Смирял нас Петр, смирял Бирон, смирял Аракчеев, смирял Николай I; ныне смиряют карательные экспедиции и ежедневные смертные казни. Смиряет вся русская литература.