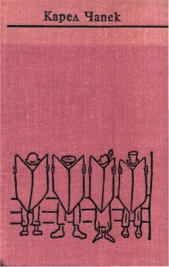Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи

Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи читать книгу онлайн
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно — ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность. В Собрание сочинений включены произведения, созданные М. Цветаевой в 1906–1941 гг., а также ее письма разных лет и выполненный ею перевод французского романа Анны де Ноаль «Новое упование».
В первую книгу пятого тома вошли автобиографические произведения (большая часть их датируется 30-ми годами), а также статьи и эссе 1910–1931 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пастернак поэт наибольшей пронзаемости, следовательно — пронзительности. Всё в него ударяет. (Есть, очевидно, и справедливость в неравенстве: благодаря Вам, единственный поэт, освобожден от небесных громов не один человеческий купол!) Удар. — Отдача. И молниеносность этой отдачи, утысячеренность: тысячегрудое эхо всех его Кавказов. — Понять не успев! — (Отсюда и чаще в первую секунду, а часто и в последнюю — недоумение: что? в чем дело? — ни в чем! Прошло!)
Пастернак — это сплошное настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки. До него ничего не было. Все двери с петли: в Жизнь! И вместе с тем, его более чем кого-либо нужно вскрыть. (Поэзия Умыслов.) Так, понимаешь Пастернака вопреки Пастернаку — по какому-то свежему — свежейшему! — следу. Молниеносный, — он для всех обремененных опытом небес. (Буря — единственный выдох неба, равно, как небо — единственная возможность быть буре: единственное ристалище ее!)
Иногда он опрокинут: напор жизни за вдруг распахнутой дверью сильней, чем его упорный лоб. Тогда он падает — блаженно — навзничь, более действенный в своей опрокинутости, нежели все задыхающиеся в эту секунду — карьером поверх барьеров — жокеи и курьеры от Поэзии. [148]
И озарение: да просто любимец богов! И — озарение зорчайшее: да нет, — не просто, и не любимец! Нелюбимец, из тех юнцов, некогда громоздивших Пелион на Оссу.
Пастернак: растрата. Истекание светом. Неиссякаемое истекание светом. На нем сбывается закон голодного года: только не бережа — не избудешь. Итак, за него мы спокойны, но о нас, перед лицом его сущности, можно задуматься: «Могущий вместить — да вместит». — ? —
Но довольно захлебываний. Попытаемся здраво и трезво. (Не страшно, уцелеет при наибелейшем дне!) Кстати, о световом в поэзии Пастернака. — Светопись: так бы я назвала. Поэт светлот (как иные, например, темнот). Свет. Вечная Мужественность. — Свет в пространстве, свет в движении, световые прорези (сквозняки), световые взрывы, — какие-то световые пиршества. Захлестнут и залит. И не солнцем только: всем, что излучает, Β для него, Пастернака, от всего идут лучи.
Итак, выработавшись, наконец, из сонных водовертей толкований — в явь, на трезвую мель тезисов и цитат!
1. Пастернак и быт.
2. Пастернак и день.
3. Пастернак и дождь.
Пастернак и быт
Быт. Тяжкое слово. Почти как: бык. Выношу его только, когда за ним следует: кочевников. Быт, это — дуб, и под дубом (в круг) скамья, и на скамье дед, который вчера был внук, и внук, который завтра будет дед. — Бытовой дуб и дубовый быт. — Добротно, душно, неизбывно. Почти что забываешь, что дуб, как древо, посвященное Зевесу, чаще других удостаивается его милости: молнии. И, когда мы это совсем забываем, в последнюю секунду, на выручку, — молнией в наши дубовые лбы: Байрон, Гейне, Пастернак.
Первое, что в круговой поруке пастернаковских первизн нас поражает: быт. Обилие его, подробность его — и: «прозаичность» его. Не только приметы дня: часа!
— Распахиваю. — «Памяти Демона».
Дальше, в стихотворении «Сестра моя Жизнь»:
(Намеренно привожу и сопутствующие строки: установить соседство.)
Дальше, про плетень:
Дальше, про ветер:
Дальше, про дачу:
Дальше, о степи:
— Одну секунду! — «Набор слов, всё ради повторяющегося „ча“… Но, господа, неужели ни с кем из вас этого не было: репья, вгрызающиеся в чулки? Особенно в детстве, когда мы все в коротком. Да, здесь вместо репей: волчец. Но разве „волчец“ не лучше?» (По хищности, цепкости, волчиной своей сути?)
Дальше:
(здесь же):
(Это стихотворение «Еще более душный рассвет» — руки горят привести его здесь целиком, как — вообще — изодрав в клочья эти размышления по поводу пустить по книжным рынкам Запада самоё «Сестру мою Жизнь». — Увы, рук — мало!)
Дальше:
Затем, в чайной:
Подъезжая к Киеву:
(Чай, уже успевший превратиться в пот и просохнуть. — Поэзия Умыслов! — «Пылающим по классам», — в III жарче всего! В этом четверостишии всё советское «за хлебом».)
«У себя дома»:
Дальше, о веках спящей:
(Веко: фартук, чтобы не запылился праздник: прекрасный праздник глаз!)
Дальше, в стихах «Лето»:
(Молодым вином: грозой! Не весь ли в этом «Serment du jeu de paume». [149])