Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015
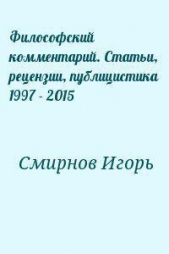
Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Культурные ситуации, в которых грянули Великая депрессия и кризис наших дней, разнятся между собой тем, что в первом случае мы имеем дело с угасанием абсолютизированной авангардом начинательности, тогда как во втором — с обессмысливанием представлений о жизни после конца истории. Экономические неурядицы дискредитируют их, обнаруживая неизбежность истории в ее разрушительном аспекте. Катастрофы капитала — месть истории за попытки прервать и превозмочь ее в намерении то ли запустить ее в ход снова от нуля, то ли попасть туда, где она более не действенна. Массовая безработица, вызываемая сокращением производства (так было во время Великой депрессии, так и сейчас), карает общества, отлучая их членов от участия в истории, обрекая тружеников на бесцельную праздность. Оживление занедужившей экономики требует, разумеется, введения иного, чем прежде, хозяйственного режима (уменьшения непроизводительных расходов на предприятиях, изменения ассортимента выпускаемых продуктов, в том числе и банковских, государственного вмешательства в рыночный обмен и т. д. и т. п.), но перестройка предпосылок производства и потребления имеет шансы на удачу, как показывает опыт 1930-х гг., тогда, когда она зиждется на далеко заглядывающих вперед планах спекулятивного свойства, будь то расовая утопия нацистов, сталинский образ страны, которой предначертано стать общей собственностью всего народонаселения, или, по меньшей мере, рузвельтовский концепт государства, занявшего сторону слабейших — работников по найму и пенсионеров. Сопоставлять Гитлера и Рузвельта политически некорректно. Но меня сейчас не занимают обвинители и обвиняемые на Нюрнбергском суде. Мне хотелось лишь подчеркнуть, что реформы американского президента имели умозрительную подоплеку, преобразуя по каритативному принципу государственную власть, всегда нуждавшуюся для своего подтверждения в обездоленных, в безвластных (в рабах, неприкасаемых, изгоях, лицах, принуждаемых к трудовой повинности, и пр.).
Культура, понятно, обманывает нас, маня в будущее, которое будто бы надежнее настоящего. Лопающиеся банки и останавливающиеся фабрики изобличают многообещающие ментальные конструкции во лжи. Однако без продолжения культурно-исторического симулирования спасения невозможно добиться стимулирования финансово-промышленной деятельности. Вопрос в том, есть ли у культуры в настоящий момент такого рода симулятивно-стимулятивный потенциал, может ли она в творческом порыве высвободиться из тупика безыдейности, поверят ли ей — в который раз! — ее пациенсы? Культура не дает ни малейшего намека на то, готова ли она к очередному взлету креативности.
Обрывы в цепи историко-культурной преемственности осмыслялись исследователями под самыми разными углами зрения. Такая дисконтинуальность объяснялась то технизацией высоко духовных устремлений (Георг Зиммель, Освальд Шпенглер), то внутренним дисбалансом многосоставной культуры (Якоб Буркхардт), то ее внешней несогласованностью с природным окружением (Джаред Даймонд), то отпадением умозрения от “жизненного мира” (Эдмунд Гуссерль), то усталостью общества от интерпретаций, выливающейся в тоску по status naturalis (Хосе Ортега-и-Гассет), то какими-то иными причинами, в перечень которых я не буду детально входить.1 Если вынести за скобки весь этот разнобой мнений, то остаток будет правомерно подытожить следующим образом: эпохальный крах надвигается тогда, когда настоящее оказывается более не продолжаемым, когда трещину дает сама переходность во времени, в которой человек еще недавно чувствовал себя более или менее безмятежно. Настоящее доступно для многих определений, в том числе и для такого понимания, в свете которого оно предстает как темпоральное поле, где действует homo oeconomicus. Существование-в-настоящем предполагает сбережение времени, стяжение прошлого опыта и планов на будущее в данном моменте, в котором принимаются решения и совершаются поступки. Приурочение истории не к эпохе демиургического Творения, а к текущей действительности (ре)организует сознание так, что оно делается предприимчиво-ответственным, то есть неизбыточным — несмотря на присущую ему силу воображения и фантазирования. Отсюда любой финансово-хозяйственный кризис связан с превращением настоящего в неэкономичное, расточительное время. Современность двулика или, если угодно, диалектична. Доминируя над тем, что было и будет, она исключительна и являет собой в этом качестве дорогое время. Высокой цены она добивается тем, что выбрасывает на рынок (идей и промышленных товаров) продукты, пользующиеся бльшим спросом, нежели конкурентные (делающиеся отсталыми, устарелыми). С другой стороны, современность жаждет вобрать в себя, абсолютизируясь, всё истории, не только стать одним из неповторимых ее периодов, но и заместить ее в полном охвате, представительствовать за нее, перекраивая на свой лад образы минувшего и увековечивая свои начинания в виде раз и навсегда релевантных. Именно в этой ипостаси настоящее оказывается тратой, нерациональным расходованием времени, которое фантомно инвестируется в то, чего больше нет, и в то, что неизвестно будет ли. Перенасыщается ли рынок какими-либо изделиями промышленного производства, раздувается ли стоимость каких-либо акций на бирже до чрезмерности, выдают ли банки кредиты без достаточного на то основания — во всех этих случаях финансово-хозяйственная практика отвечает той сиюминутности, которая стремится перетолковать “здесь и сейчас” во “всюду и всегда”. Экономические кризисы опричиниваются в последней инстанции тем же, чем обусловливаются предпринимательские сметка и расчет, — существованием-в-настоящем. Восстановительные работы на месте экономической катастрофы состоят в смене обанкротившейся современности новой. Такого рода подстановку способен осуществить только интеллект, выдвигающий до того небывалую модель культуры и закладывающий тем самым рамочные условия, в которых хозяйствование могло бы ремодернизироваться, опять укорениться в современности, вызывающей впечатление, что она снабжена запасом прочности надежнее, чем прежде, что она будущностна. Я сомневаюсь в том, что у нас сейчас есть шанс перейти из настоящего, переживающего имплозию, в еще одно, очередное, положившись на спасительность культуротворчества. Вряд ли кому-то может понравиться этот скепсис. Но не из охоты за гегелевским “признанием” мне хотелось бы ошибиться.
Китайская поэзия в переводе, или Размолвка ученого с поэтом
Опубликовано в журнале: Вопросы литературы 2009, 2
Толчком к написанию этой статьи послужили несколько строк воспоминаний М. Гаспарова о Сергее Павловиче Боброве в его книге "Записи и выписки". Там, в частности, сказано: "Но больше всего он гордился стихотворным переложением Сы Кун-ту, "Поэмы о поэте", двенадцатиcтишия с заглавием "Могучий хаос", "Пресная пустота", "Погруженная сосредоточенность", "И омыто и выплавлено", "Горестное рвется" и т. д.". Далее М. Гаспаров цитирует С. Боброва: "Пришел однажды Аксенов, говорит: Бобров, я принес вам китайского Хлебникова! — и кладет на стол тысячестраничный том, диссертацию В. М. Алексеева". Гаспаров поясняет: "Там (то есть в книге В. Алексеева "Китайская поэма о поэте". -И. С.)был подстрочный перевод с комментариями буквально к каждому слову. В 1932 году Бобров сделал из этого поэтический перевод, сжатый, темный и выразительный". И опять цитата из рассказа Боброва: "Пошел в "Интернациональную литературу", там работал Эми Сяо, помните, такой полпред революционной китайской литературы, стихи про Ленина и прочее. Показываю ему, и вот это дважды закрытое майоликовое лицо (китаец плюс коммунист) раздвигается улыбкой, и он говорит тонким голосом на всю редакцию: "То-ва-ли-си, вот настоящие китайские стихи!" После этого Бобров послал свой перевод Алексееву, тот отозвался об Эми Сяо "профессиональный импотент", но перевод одобрил. Напечатать его удалось только в 1969 году в "Народах Азии и Африки" стараниями С. Ю. Неклюдова" [1].























