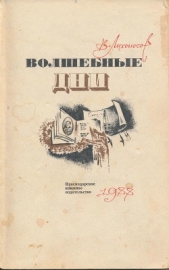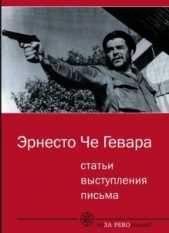Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 1

Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 1 читать книгу онлайн
В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.
Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чернь как таковая, судя по всему, не существует, однако существует что-то от черни. Потому что чернь есть в телах и в душах, есть чернь в индивидах, в пролетариате, что-то от нее есть и в буржуазии, однако же в расширительном смысле имеются самые разные ее формы, энергии, несводимости. Эта часть черни — в меньшей степени внешнее по сравнению с отношениями власти, нежели их предел, их изнанка, их рикошет; это то, что на всякое наступление власти откликается движением, направленным на то, чтобы от нее освободиться, а следовательно, это то, что мотивирует совершенно новое развитие сетей власти. Ослабление черни может осуществляться тремя способами: либо через действительное подчинение, либо посредством ее использования в качестве черни (см. пример об использовании преступности в XIX столетии), либо же еще и тем, что она сама прикрепляется к какой-то одной стратегии сопротивления. А, стало быть, с этой точки зрения, чтобы проводить исследование порядков власти, совершенно необходимо брать ту чернь, которая по отношению к власти является ее изнанкой и пределом; лишь исходя из этого, может пониматься и ее функционирование, и ее развитие. И я совсем не думаю, что это каким-то образом может смешиваться с неопопулизмом, который представлял бы чернь в качестве сущности, или неолиберализмом, который воспевал бы ее основные права.
— Вопрос об осуществлении власти охотно осмысляется сегодня с точки зрения любви (к господину) или же с точки зрения желания (масс по отношению к фашизму). Можно ли проделать генеалогию подобной субъективации? И можно ли обозначить те образы согласия, те «причины повиноваться», в которые она облекает действия власти?
Ведь согласно одним — неустранимость господина, а согласно другим — самое решительное ниспровержение устанавливаются именно вокруг пола. И в таком случае власть представляется как запрещение, закон — как форма, а пол — как материал для запрещения. Связано ли такое расположение (которое признает законным два этих противоречащих друг другу рассуждения) со «случайностью» фрейдовского открытия или же отсылает к некому особому назначению сексуальности в экономии власти?
— Мне кажется невозможным, что мы одним и тем же образом могли бы подойти к этим двум представлениям: любви к господину и желанию массами фашизма. Разумеется, в обоих случаях мы обнаруживаем определенную «субъективацию» отношений власти, однако же и там и здесь она вовсе не порождается одинаковым образом.
Что беспокоит в утверждении о желании массами фашизма, так это то, что подобное уверение прикрывает собою отсутствие четкого исторического анализа. Я вижу тут преимущественно следствие какого-то общего умысла, связанного с отказом разбираться в том, чем действительно был фашизм (отказ, который выражается либо через обобщение: «фашизм повсюду, в особенности же — у нас в головах», либо посредством марксистской схематизации). Отказ от исследования фашизма выступает как одно из самых значительных политических обстоятельств этого последнего тридцатилетия. Что и позволяет делать из него некое плавающее означающее, назначением которого, по существу, оказывается изобличение: подозрение, что приемы всякой власти являются фашистскими, распространяется аналогично тому, как предполагается, что массы являются фашистскими в своих стремлениях. Под утверждением о желании массами фашизма таится какая-то историческая проблема, средств для разрешения которой мы пока еще не нашли.
Представление же о «любви к господину» [75] ставит, я полагаю, совершенно иные вопросы. Суть его заключается в том, чтобы не ставить вопрос о власти или же, скорее, ставить его так, чтобы его невозможно было исследовать. И все это через несостоятельность понятия господина, которого беспрестанно преследуют лишь разнообразные фантазии о хозяине и его рабе, о наставнике и его ученике, о мастере и его рабочем, об адвокате, который провозглашает закон и изрекает истину, о распорядителе, который обличает и возбраняет. [76]
Дело в том, что с подобным низведением инстанции власти к образу господина связана и совсем иная недооценка, а именно сведение различных властных процедур к запрещающему закону. У подобного сведения к закону три главные роли:
— оно позволяет подчеркивать и использовать схему власти, однородную по отношению к уровню, на котором мы находимся, в какой бы то ни было сфере: семьи или государства, отношений воспитания или производства;
— оно допускает осмысление власти лишь в негативных терминах: отказа, размежевания, преграды, цензуры. Дескать, власть — это то, что говорит «нет», И подобным образом понятое столкновение с властью представляется исключительно лишь как нарушение закона;
— оно позволяет осмысливать основополагающее воздействие власти как речевой акт: как провозглашение закона, как запрещающий дискурс. И проявление власти облекается в форму явственного высказывания: «ты не должен».
Подобное понимание дает известное количество эпистемологических преимуществ. И все это благодаря возможности связать его с этнологией, обращенной к анализу основных брачных запретов, или же с психоанализом, зациклившемся на механизмах вытеснения. Таким образом, одна и та же «формула» власти (запрещение) прилагается ко всем видам обществ и ко всем уровням подчинения. Однако же, превращая власть в некую инстанцию, состоящую в безусловном «нет», мы приходим к двоякой «субъективации», ибо с той стороны, где власть осуществляется, она понимается как своего рода великий абсолютный субъект (действительный, воображаемый или же исключительно правовой — неважно), который выражает запрещение, будь он самовластием отца, монарха или же общей воли.
А на стороне, где власть претерпевается, ее не в меньшей степени стремятся «субъективировать», определяя точку, где совершается принятие запрета, точку, где говорят «да» или «нет» власти; так что, например, для того, чтобы осознать осуществление верховной власти, предполагают либо отказ от естественных прав, либо общественный договор, либо же любовь к господину. Мне кажется, что от постройки, воздвигнутой классическими правоведами, и вплоть до современных концепций вопрос всегда ставился в одном и том же смысле — в смысле власти по своей сущности негативной, которая предполагает, с одной стороны, владыку, чья роль — запрещать, и другого, подданного, которому положено известным образом отвечать на этот запрет согласием. Так что современный анализ власти в терминах либидо всегда артикулируется с помощью этого ветхого юридического представления.
Почему же на протяжении столетий предпочтение отдается подобному анализу? Отчего же столь последовательно власть истолковывается во всецело негативном смысле запрещающего закона? Отчего власть сразу же начинает осмысляться в качестве правовой системы? Наверняка нам скажут, что в западных обществах право всегда служило личиной власти. Однако, по-моему, такое объяснение совершенно недостаточно. Право явилось эффективным орудием установления монархических видов власти в Европе, и политическая мысль в течение столетий была подчинена вопросу о самовластии и о его правах. С другой же стороны, и в особенности в XVII столетии, право служило оружием в борьбе против самой этой монархической власти, которая прежде воспользовалась им для того, чтобы утвердиться. И наконец, оно было основным способом репрезентации власти (и под репрезентацией надо понимать не ширму или иллюзию, а действительный тип поведения).
Право не является ни истиной, ни оправданием власти. Это ее орудие, сразу и сложное и частичное. Форма закона и выражаемые им запретительные последствия должны помещаться среди множества других, не правовых, механизмов. Так что уголовную систему не следует анализировать просто-напросто как устройство по запрету и подавлению одного класса другим, а также как некое оправдание, за которым укрываются беззаконные насильственные действия господствующего класса; ибо оно дает возможность для политического и хозяйственного управления посредством различения между законностью и беззакониями. Точно так же и с сексуальностью: несомненно, запрещение отнюдь не представляет собой основную форму, в которой ее использует власть.