Корни сталинского большевизма
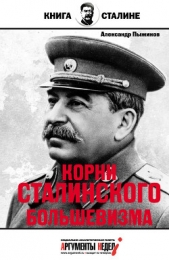
Корни сталинского большевизма читать книгу онлайн
О революции и Сталине написано многое, но в данной работе автор предлагает по-новому посмотреть на нашу историю. В основе книги – взгляд на различие ленинского и сталинского большевизма. Эти два течения имели разные истоки, социальную базу, идейные устремления. Не будет преувеличением сказать, что объединяла их только внешняя «вывеска» и набор общих лозунгов, чем во многом и ограничивается их схожесть. Понимание этого обстоятельства открывает новые горизонты не только с научной, но и с практической точки зрения. Позволяет более глубоко осмыслить бурные события отечественного XX века. Книга будет интересна всем, кому не безразлична история своей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«…Тут нет ничего похожего на обыкновенные отношения между хозяином и его работником; речью заправляют, ничем и никем не стесняясь, наиболее начитанные, будь это хоть последние бедняки из целой артели; они же вершат и иные поднятые вопросы». [49]
Хозяин в спорных случаях оказывался перед серьезным выбором: или подчиниться артели, а между артелями в селении существовала подлинная солидарность, или встать в разлад с нею, т. е. с целым обществом. Неудивительно, что, как правило, хозяин предпочитал первое, поскольку каждый, независимо от рода занятий и своей роли, был крепко вплетен в этот социальный организм.
Подобные отношения между работниками и хозяевами существовали и на появляющихся крупных мануфактурах. Например, в староверческом анклаве Иваново в 1830-1840-х годах уже насчитывалось около 180 фабрик. Имена их владельцев – Гарелины, Кобылины, Удины, Ямановские и другие – были широко известны в центральной России. Заметим, что возглавляемые ими предприятия состояли из артелей, являвшихся основной производственной единицей. Артель непосредственно вела дела, «рядилась с хозяином», получала заработанное, т. е. оказывала ключевое влияние на весь ход фабричной жизни [50]. В таких условиях сформировался особый тип «фабричного», «мастерового», психологически весьма далекий от обычного работника по найму в классическом капиталистическом смысле этого слова. Серьезно изучавшие дореформенную мануфактурную Россию, замечали: если высший класс с завистью, но без уважения относится к этим капиталистам из крестьян, то «чернь… богатство их считает своим достоянием, выманивая его по частям посредством ловкости и хитрости» [51]. Это порождало разговоры о том, что фабрика портит народ, что под ее влиянием простолюдин утрачивает чистоту нравов. Официальные власти усматривали здесь криминализацию взаимоотношений, недоумевая, как могут простые фабричные работники держаться с хозяевами с наглой самоуверенностью и ставить себя с ними на равных? Эту черту фабричной жизни дореформенной России подметили и советские историки. Правда, их вывод был своеобразным: якобы «фабричная жизнь начинала вырабатывать людей, не безропотно переносящих произвол и эксплуатацию» [52].
Нужно сказать, что у правительства подобная направленность старообрядческой экономики вызывала нарастающую тревогу. Все это противоречило рыночным началам экономики, зримо напоминая коммунистические идеалы общественной собственности и управления. Напомним, что в 40-х годах XIX века такое социальное устройство активно популяризировали некоторые европейские мыслители. Разумеется, это обусловило пристальное внимание российских властей к подобным явлениям на местной почве. В результате была инициирована масштабная атака на староверческое купечество, которое рассматривали как силу, поддерживающую раскольничьи порядки. По указанию администраций, «не принадлежавшим к святой церкви», то есть раскольникам независимо от согласий давалось право пребывать в купеческих гильдиях лишь временно, сроком на один год. Желающие же находиться в гильдиях на постоянной основе обязывались представить документы о принадлежности к господствующей церкви. Запрещалось также утверждать староверов в должностях по общественным выборам, удостаивать их наградами и отличиями. Данные меры означали коллапс всей староверческой экономики и привели к ее переформатированию уже в рамках официального законодательства империи. Раньше, как мы видели, главенствующую управленческую роль играли наставники, советы, попечители, а частно-семейное владение выступало своего рода адаптером по отношению к властям и официальному миру. Теперь же, в условиях жесткого государственного контроля, акценты смещались в сторону тех, кто управлял торгово-промышленным делом, и их наследников. После этих потрясений «лицо» русского староверия сильно изменилось [53].
Однако, бурные события, происходившие в расколе, не остались незамеченными российской интеллигенцией, прежде всего, настроенной негативно по отношению к самодержавию. Благодаря охранительным заботам верхов, раскол приобретает в России широкое общественное звучание. Можно сказать, что для части отечественной элиты он становится своего рода модой. Староверческий мир начинают активно изучать, и это открывает новые возможности для национального самосознания, для осмысления собственной истории и культуры. Кроме того, на раскол перестали смотреть как на чисто религиозное явление; в нем увидели черты, имеющие гражданское значение, что обогатило всю общественную жизнь. В этом новом взгляде особый акцент был сделан на политическую составляющую раскола. С точки зрения групп, жаждущих политических перемен, старообрядчество выглядело весьма привлекательно, поскольку издавна противостояло самодержавию и государственности синодального православия. Раскол казался силой, которая наконец-то трансформирует революционные порывы лучшей части интеллигенции в реальную практику.
Практическая реализация этой идеи связана с интереснейшей эпохой отечественной истории, прошедшей под знаком народничества (1860 – 1870-е годы). Специфика этого движения состояла в том, что оно выстраивалось не вокруг какого– либо класса, а вокруг старообрядчества, как религиозной общности. Конфессиональный подход к борьбе сформулировали знаменитые революционеры А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Лидеры русской эмиграции первыми взялись объяснить староверию его историческую миссию, наладив интенсивные контакты с его представителями. Правда, обращает на себя внимание тот факт, что у них прослеживался акцент на налаживание отношений с поповцами. Так, Герцен предложил учредить в Лондоне старообрядческую церковную иерархию. Обсуждался выбор кандидата на новую епископскую кафедру; ему предлагалось дать имя Сильвестр, а по кафедре именовать его епископом Новгородским, в честь вольного Великого Новгорода. Идею собирались с помпой осуществить во время лондонской Всемирной выставки [54]. Герцен и Огарев тесно контактировали с московским купцом Н. П. Шибаевым от рогожских старообрядцев. Ему адресовались письма с просьбами делать все возможное для сбора ополчения, состоящего из раскольников «как главных распорядителей всего ожидаемого движения» [55]. Однако быстро выяснилось, что купцы-староверы оказались совсем не тем элементом, на который можно было рассчитывать. Вместо собирания народного ополчения они с начала 1860-х годов принялись направлять властям верноподданнические адреса, где презентовали себя в качестве надежных слуг государства. Разочарование революционеров не знало границ.
Ситуацию вызвался выправить известный М. А. Бакунин, прибывший в Лондон после побега с сибирской каторги. Он скептически относился к связям его соратников по эмиграции со старообрядческими белокриницкими иерархами и купцами-староверами, считая это пустой тратой времени. Он был уверен, что раскол, воплощенный в народе и в попах – это две разные, и зачастую враждебные, друг другу силы, которые нельзя смешивать [56]. Вожди движения, осознав имеющиеся проблемы, внесли серьезные коррективы в свои действия. Постулат о роли раскола, как основной силы противостояния, под сомнение не ставился. Однако теперь акценты переместились непосредственно в гущу народа, в низы. Нечего ждать ни от купечества – более гнилого, чем дворянство, ни от старообрядческих иерархов. Верить можно только в спящую силу народа, который пребывает в расколе, и в среднее сословие – разночинное, официально непризнанное, которое способно разбудить народ для великих дел. Именно отсюда и родился знаменитый бакунинский клич – в народ! Теперь все взоры народников были обращены на беспоповские массы. Вне этой многомиллионной силы не существует ни дела, ни жизни, ни будущего. Народ должен увидеть рядом с собой тех, кто готов разделить с ним его страдания и протест. Пропаганда непосредственно в народных массах становится основным делом столпов русской эмиграции.
























