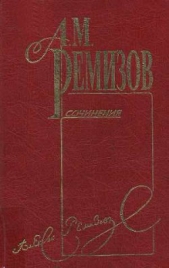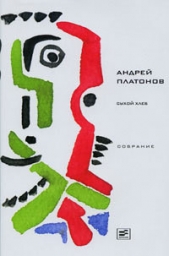Том 8. Фабрика литературы

Том 8. Фабрика литературы читать книгу онлайн
Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.
В этот том вошла литературная критика и публицистика 1920-1940-х годов.
К сожалению, в файле отсутствует часть произведений.
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А как же нужно бы написать, Александр Григорьевич?
— Я бы написал: Елизавета была стервой и глядела в окно.
Очевидно, что Александр Григорьевич думал о такой литературе, в которой условность формы, традиционность изложения, давление серого материала слов, блуждание в подробностях были бы наименьшими. Он думал о литературе, которая действовала бы «напрямую», то есть кратко, экономно, но с глубокой серьезностью излагала бы существо того дела, которое имеет сообщить писатель. Художество без темы, и темы обязательно значительной, художество без человеческой глубины, которую истинный писатель имеет, во-первых, в своей собственной натуре и, во-вторых, придает изображаемым характерам, — такое художество есть род наивности или мошенничества. Это хорошо знал Архангельский. Его литературная работа была поисками нового, более совершенно действующего прозаического и стихотворного искусства, — искусства, которое не разрушалось бы и не превращалось в свою противоположность от прикосновения к нему пародирующего пера сатирика, искусства, защищенного значительностью своей темы и собственной жесткой, прекрасной формой.
Архангельский страстно искал признаков этого большого, будущего искусства в современной советской литературе, и когда находил что-либо ценное и достойное, то признавал, что его перу сатирика и пародиста в данном случае делать было нечего.
И наоборот, сколько произведений — больших и малых, — будучи слегка перелицованными пером Архангельского или даже не перелицованными, а лишь надлежаще процитированными, обратились в обломки, в ветошь, в пустяки, обнажив ничтожную надменность замыслов их авторов, оставив грустное зрелище на месте того торжества, на которое легкомысленно рассчитывали писатели. Мы здесь не будем цитировать сочинений Архангельского из его книг «Карикатуры и пародии» и «Почти портреты», — эти книги широко известны читателям.
Мы утратили в лице Александра Архангельского остроумного, дальновидного и веселого человека и писателя, одаренного редким талантом сатирика, — настолько умного и литературно тактичного, что он ни разу не осмелился испытать свои силы на создании хотя бы одного оригинального произведения, того самого, которое не поддается разрушению пародией; к сожалению, это личное качество Архангельского (слишком острое чувство литературного такта), при всей его прелести, безвозвратно скрыло от нас многие возможности умершего сатирика; вероятно, мы узнали лишь десятую часть действительных способностей Архангельского, но теперь это уже невозвратимо.
Прости нас, твоих друзей по работе, не исполнивших твоих надежд при твоей жизни, и прощай навеки, товарищ Архангельский.
Навстречу людям
(По поводу романов Эрнеста Хэмингуэя «Прощай, оружие!» и «Иметь и не иметь»)
Из чтения нескольких произведении американского писателя Эрнеста Хемингуэя мы убедились, что одной из главных его мыслей является мысль о нахождении человеческого достоинства, стремление открыть истинного, то есть не истязающего себя и других, человека, притом нашего современника.
Ему очень важно выяснить, в чем же состоит истинное достоинство современного человека, то есть открыть и изобразить того человека, который был бы приемлем для других и выносим для самого себя.
Хемингуэй предполагает, что для такого человека не нужно ничего особо возвышенного, вдохновенного, ничего лишнего, пошлого, а также нарочито прекрасного или чего-либо чрезвычайного в смысле характера: все трудно осуществимое не должно мешать происхождению этого человека. Необходимо лишь нечто посильное, достаточное, но в то же время такое, что сделало бы взаимную жизнь людей терпимой и даже увлекательной. Последнее — увлекательность — можно иметь посредством использования и развития прирожденных или наличных свойств человека: чувства любви, стремления к производительной творческой работе, страсти к путешествиям, приключениям и к спорту, склонности к тонкому умственному труду и остроумию и т. п. Главное же — достоинство — следует еще найти, открыть где-то в мире и в глубине действительности, заработать его (может быть, ценою тяжелой борьбы) и привить это новое чувство человеку, воспитать и укрепить его в себе.
Отсюда инстинктивный страх Хемингуэя впасть в пошлость, в бестактность характеристики любого своего героя, что принимается большинством его читателей за высокое литературно-формальное качество его работы.
Наверно, это так и есть: литературное мастерство Хемингуэя стоит на высоком уровне. Но объяснение этому мастерству должно искать в обостренном чувстве такта у писателя, а чувство такта является у него средством борьбы с пошлостью, со скрытой распущенностью, святошеством, удушающим угнетением, с почти демонстративным оглуплением высших слоев общества и прочими обстоятельствами жизни на европейском Западе и в Америке. Если это острое чувство такта писателя и не поможет читателю, не привьется к нему как правило мышления и поведения, оно наверняка предохранит самого Хемингуэя от заражения из внешней среды тем худым и отвратительным, чего он, видимо, не переносит. Вот почему этику так часто Хемингуэй превращает в эстетику; ему кажется, что непосредственное, прямое, открытое изображение торжества доброго или героического начала в людях и в их отношениях отдает сентиментализмом, некоторой вульгарностью, дурным вкусом, немужественной слабостью. И Хемингуэй идет косвенным путем: он «охлаждает», «облагораживает» свои темы и свой стиль лаконичностью, цинизмом, иногда грубоватостью; он хочет доказать этическое в человеке, но стыдится из художественных соображений назвать его своим именем и ради беспристрастия, ради сугубой доказательности и объективности ведет изложение чисто эстетическими средствами. Это хороший способ, но у него есть плохое качество: эстетика несет в данном случае служебную, транспортную роль, забирает много художественных сил автора на самое себя, не превращая их обратно в этику. Эстетика, являясь здесь передаточным средством от автора к читателю, подобно электрической линии высокого напряжения, расходует, однако, много энергии на себя, и эта энергия безвозвратно теряется для читателя-потребителя.
В одном из лучших романов Хемингуэя «Прощай, оружие» изображается эпизод первой встречи лейтенанта Генри с Кетрин Баркли, которая, Кетрин, затем наполнит все его сердце и всю его жизнь и даст возможность вынести империалистическую войну и выйти из нее.
«Мы посмотрели друг на друга в темноте. Я подумал, что она очень красива, и взял ее за руку. Она не отнимала руки, и я держал ее за руку и обнял ее за талию. „Не надо“, — сказала она. Я не отпускал ее. „Почему?“ — „Не надо“. — „Надо, — сказал я. — Так хорошо“, Я наклонился в темноте, чтобы поцеловать ее, и что-то обожгло меня коротко и остро. Она сильно ударила меня по лицу. Удар пришелся по глазам и переносице, и у меня выступили слезы. „Мне очень жаль“, — сказала она. Я почувствовал, что преимущество на моей стороне. „Вы были правы. Мне очень, очень жаль“, — сказала она… Она смотрела на меня в темноте. Я чувствовал досаду и в то же время уверенность, зная все наперед, точно ходы в шахматной партии. Так все и случилось, как предвидел Генри, только что получивший пощечину. Через одну-две минуты Кетрин сказала: „Вы милый“. — „Вовсе нет“. — „Да, вы хороший. Хотите, я сама вас поцелую?“ Я посмотрел ей в глаза и снова обнял ее за талию и поцеловал… Я крепко прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, и ее губы раскрылись, и голова откинулась на мою руку, и она плакала у меня на плече. „Милый! — сказала она. — Вы всегда будете такой, правда?“ — „Кой черт?“ — подумал я. Я погладил ее по волосам и потрепал по плечу. Она плакала».
Циничный, грубоватый лаконизм изложения, «мужественное» пренебрежение женской пощечиной, «многоопытная» уверенность в близком поцелуе, «кой черт» и прочие атрибуты — все это необходимо Хемингуэю, чтобы скрыть волнение первого, или почти первого, чувства любви Генри к девушке, вернее, чтобы любою ценою найти новую, нешаблонную, действующую на читателя форму изображения. Новая форма отчасти достигается, однако в ее «стенки», в ее устройство впитывается много содержания, и там оно погибает для читателя. Правда, мы не знаем, каким образом изложенный эпизод можно написать лучше, но в нас нет уверенности, что «мужественное», лаконическое, с оттенком животного нетерпения описание любви есть наилучшее, что этот способ дает более точное представление о сущности человеческого чувства, чем другой. Сентиментализм был бы здесь, наверно, еще хуже, но подчеркнутая механистичность чувства человеческой любви тоже ведь не точная истина, а лишь литературная, изысканная нарочитость. Например, в эпизоде, когда Генри лежит раненый в госпитале и к нему приходит Кетрин, чтобы впервые отдаться ему, дело изображено таким образом: