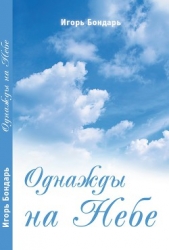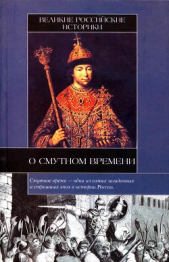Критические статьи, очерки, письма

Критические статьи, очерки, письма читать книгу онлайн
В четырнадцатый том Собрания сочинений вошли критические статьи, очерки и письма Виктора Гюго, написанные им в различные годы его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Женщина вышла. Я стал ждать. Пламя свечи тускло озаряло пышное убранство гостиной и висящие на ее стенах великолепные полотна Порбуса и Гольбейна. Мраморный бюст смутно белел в полумраке, словно призрак того, кто сейчас умирал. Дом был насквозь пропитан запахом гниения.
Вошел г-н Сюрвиль и повторил все то, что уже рассказала мне служанка. Я попросил разрешения увидеть г-на Бальзака.
Мы миновали коридор, поднялись по лестнице, устланной красным ковром, увешанной картинами и украшенной вазами, статуями, коллекциями эмалей; прошли еще один коридор, и я увидел отворенную дверь. Слышалось громкое, зловещее дыхание.
Я был в комнате Бальзака.
Посреди комнаты стояла кровать. Это была кровать красного дерева, к ногам и изголовью ее были прикреплены поперечные брусья с ремнями, — с их помощью больного можно было поворачивать. На этой кровати лежал Бальзак. Голова его покоилась на груде подушек, среди них было несколько диванных, из красного шелка, снятых с софы, стоящей в этой же комнате. Лицо его было лиловым, почти черным, голова повернута вправо; он был небрит, седые волосы его были коротко острижены, взгляд широко раскрытых глаз неподвижен. Я видел его сбоку, и в профиль он показался мне похожим на императора.
По обе стороны кровати неподвижно стояли двое: старуха-сиделка и слуга. Одна свеча горела на столе, позади изголовья, другая — на комоде, возле двери. На ночном столике стоял серебряный сосуд.
Женщина и мужчина молчали в каком-то оцепенении, прислушиваясь к хриплому дыханию умирающего.
Пламя свечи, стоявшей позади изголовья, ярко освещало висевший над камином портрет молодого, цветущего, улыбавшегося юноши.
От постели шел нестерпимый запах. Я приподнял одеяло и нашел руку Бальзака. Рука была потная. Я пожал ее. Он не ответил на рукопожатие.
Это была та самая комната, где я был у него месяц тому назад. Тогда он был весел, полон надежд, он не сомневался в том, что поправится, и со смехом показывал свои опухшие ноги.
В тот день мы много говорили и спорили о политике. Он упрекал меня за мою «демагогию». Он был легитимистом. Он говорил мне: «Как вы могли так спокойно отказаться от титула пэра Франции — самого прекрасного после титула французского короля!»
Он также сказал: «Мне принадлежит весь дом господина Божона, правда без сада. Но зато здесь у меня есть собственное место в церкви. На той лестнице есть дверь, — через нее попадаешь прямо в часовню, которая находится на углу улицы. Мне стоит только повернуть ключ — и я могу слушать мессу. Этим я дорожу даже больше, чем дорожил бы садом».
Я собрался уходить; с трудом передвигая ноги, он проводил меня до той самой лестницы, показал мне эту дверь; потом он крикнул жене: «Только смотри, покажи Гюго все мои картины»…
…Сиделка сказала:
— Он умрет на рассвете.
Я спустился по лестнице, унося в памяти это мертвенно-бледное лицо; проходя через гостиную, я вновь увидел неподвижный, бесстрастный, горделивый бюст, смутно белевший в полумраке, — и сравнил смерть с бессмертием.
Вернувшись домой, — это было воскресенье, — я застал у себя несколько человек, которые ждали меня; среди них был поверенный в делах Турции Рицца-Бей, испанский поэт Наварет, итальянский изгнанник Арривабен. Я сказал им:
— Господа, сегодня Европа потеряет великого человека.
Он умер ночью. Ему был пятьдесят один год.
Хоронили его во вторник. Сначала гроб его поставили в бывшей часовне Божона, — его пронесли туда через ту самую дверь, ключ от которой был ему дороже всех райских садов бывшего откупщика.
В день его кончины Жиро написал с него портрет. Хотели отлить и маску, но не успели — так быстро труп разложился. Когда на следующее утро пришли снять слепок, лицо покойного было уже неузнаваемо, нос опустился на щеку. Его положили в дубовый гроб, обитый внутри свинцом.
Заупокойную мессу служили в церкви святого Филиппа де Руль. Стоя у гроба, я думал о том, что когда-то в этой церкви крестили мою младшую дочь и что я не был здесь с того самого дня. В наших воспоминаниях смерть соприкасается с рождением.
На похоронах был министр внутренних дел Барош. В церкви он сидел у катафалка рядом со мной; по временам он обращался ко мне.
— Это был знаменитый человек, — сказал он.
Я ответил:
— Это был гений.
Траурная процессия проследовала через весь Париж и бульварами дошла до кладбища Пер-Лашез. Когда мы выходили из церкви, шел небольшой дождь; он еще продолжался, когда мы пришли на кладбище. Был один из тех дней, когда кажется, будто плачет небо.
Я шел справа от гроба, держа одну из серебряных кистей балдахина. Александр Дюма шел с другой стороны.
Когда мы стали приближаться к могиле, вырытой высоко на холме, мы увидели, что нас уже ждет огромная толпа. Сюда вела узкая и неровная дорога, лошади с трудом сдерживали траурные дрога — они то и дело съезжали вниз. Я оказался между колесом и чьим-то памятником и чуть не был раздавлен. Какие-то люди, ожидавшие у могилы, удержали меня за плечи и помогли взобраться к ним наверх.
Весь путь мы прошли пешком.
Гроб опустили в могилу, вырытую рядом с могилами Шарля Нодье и Казимира Делавиня. Священник произнес заупокойную молитву, и я сказал несколько слов.
Пока я говорил, солнце садилось. Вдали, в ослепительных красках заката, лежал передо мною весь Париж. Под моими ногами осыпалась земля, и слова мои прерывались глухим стуком комьев земли, падавших на гроб.
ИЗ ТРАКТАТА «ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР»
Часть вторая
КНИГА ПЕРВАЯ
Шекспир. Его гений
«У Шекспира, — говорит Форбс, — нет ни трагического, ни комического таланта. Его трагедия искусственна, а комедию он пишет, руководствуясь только инстинктом». Джонсон скрепляет этот приговор: «Его трагедии — плод изобретательности, а комедии — плод инстинкта». Форбс и Джонсон оспаривали его драматургический талант, Грин оспаривает его самостоятельность. Шекспир — это «плагиатор»; Шекспир «все списывал у других»; Шекспир «ничего не выдумал»; это «ворона в павлиньих перьях»; он грабит Эсхила, Боккаччо, Банделло, Голиншеда, Бельфоре, Бенуа де Сен-Мора, он грабит Лайамона, Роберта Глостера, Роберта Васа, Питера Лэнгтофта, Роберта Мэннинга, Джона Мандевиля, Сэквиля, Спенсера; он грабит «Аркадию» Сиднея, он грабит анонимного автора «Правдивой хроники о короле Лире», он крадет у Роули — из его «Смутного царствования короля Джона» (1591) — характер бастарда Фольконбриджа; Шекспир грабит Томаса Грина, Шекспир грабит Деккера и Четтля; «Гамлета» написал не он, «Отелло» написал не он, «Тимона Афинского» написал не он; он ничего не написал. Для Грина Шекспир не только «кропатель белых стихов», «потрясатель сцены» (shake-scene), не только Johannes factotum [124] (намек на ремесло зазывалы и статиста); Шекспир для него хищный зверь. Назвать его вороном недостаточно. Шекспир возводится в достоинство тигра. Вот текст: Tyger's heart wrapt in a players hyde. Сердце тигра, скрытое под шкурой актера. («A Groart sworth of wit», [125] 1592.)
Томас Раймер судит об «Отелло» так: «Мораль этой басни, несомненно, очень поучительна. Это предупреждение заботливым хозяйкам, чтобы они хорошенько следили за своим бельем». Далее тот же Раймер благоволит отбросить шутки и заговорить о Шекспире серьезно: «Произведет ли такая поэзия поучительное и полезное впечатление на зрителей? Чему может послужить такая поэзия, как не тому, чтобы смутить наш здравый смысл, взбаламутить наши мысли, взбудоражить наш мозг, извратить наши инстинкты, свести с пути истинного наше воображение, испортить наш вкус и набить нам голову тщеславием, путаницей, шумом, треском и галиматьей?» Это было напечатано через восемьдесят лет после смерти Шекспира, в 1693 году. Мнения всех критиков и знатоков сходились.