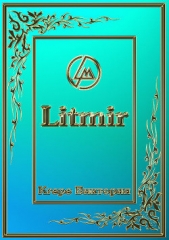Не мир, но меч

Не мир, но меч читать книгу онлайн
В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д.С.Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе, вместо алтаря, — и, при всем том, я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту Землю…» «В Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно, как бы это случилось в России, на станции».
Эта унылая серая слякоть в Назарете не напоминала ли Гоголю заключения «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?» «Дождь лил ливмя на жида, накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь… Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое, без просвету, небо!.. Скучно на этом свете, господа!»
Что значит эта серая паутина дождя, эта стена сонной серой мглы, точно серого пепла между христианством Гоголя, может быть, всем нашим христианством и подлинным Христом — «отроком из Назарета»? Не есть ли это стена всех «1847 лет» исторического христианства? Ведь и Гоголь в христианстве своем отрекся от земли, проклял землю; не потому ли и в Святой земле нашел он землю не святую? Искал на земле только неба и не нашел ни неба, ни земли, а лишь то, что в вечной середине между небом и землей — серую холодную мглу, серый стынущий пепел христианства, которое «не удалось», «не выгорело».
Гоголь — в Назарете, стране Благовещения, там, где впервые небо стало земным, земля — небесною, застигнутый серою слякотью, «как бы это случилось в России, на станции», глядящий на «мокрых галок и ворон», на «слезливое, без просвета небо» и даже не плачущий, а только зевающий: «скучно на этом свете!» — не символ ли это всего современного, серединного, ни холодного, ни горячего, а лишь теплого, ни черного, ни белого, а лишь серого, ни пляшущего, ни плачущего, а лишь «зевающего» христианства?
«И непонятною тоскою уже загорелась земля, черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду у всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоем мире!»
Исполинская скука, оцепенение, сонная зевота, которая страшнее самого безумного отчаяния, все более и более овладевают Гоголем, по возвращении в Россию, в три, четыре последние года жизни.
«Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять… Не пишется… не хочется говорить ни о чем… Может быть, оттого, что не стало, наконец, ничего любопытного на свете». «Право, скучно, как посмотришь кругом, на этом свете», — вырывается у него однажды в разговоре, с обычною, должно быть, зевотою.
Все чаще жалуется он на «умственную спячку», «недвижность», «непостижимую лень и бездействие сил». «У меня все лениво и сонно… Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? старость, или временное оцепенение сил? сплю ли я, или так сонно бодрствую, что бодрствование хуже сна?»
«Работа [2] не подвигается; иное слово точно вытягиваешь клещами»… «Не работается, не живется, хотя покуда это и не видно другим».
Это и есть та страшная летаргия, о которой он писал. «Слышу в себе силу и слышу, что она не может двинуться». «Мы видели Гоголя в Москве, — пишет Аксаков осенью 1848 года, — он мало наружно переменился, но кажется так, как будто не тот Гоголь».
Снаружи кажется он почти спокойным, более здоровым и крепким, чем когда-либо. Но у него, по собственному признанию, «все расстроено внутри»; это наружное спокойствие и есть зловещий признак того, что вся сила болезни ушла внутрь.
«Как он переменился, — пишет сестра его в дневнике из родной усадьбы Васильевки, недалеко от знаменитой Диканьки, куда Гоголь приехал гостить весною 1848 года. — Как он переменился! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный, равнодушный к нам! Как мне это было больно!» И на следующий день 10 мая: «Все утро мы не видели брата! Грустно: не видели шесть лет, и не сидит с нами». 13. — «Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется». 20. — «Сегодня у меня сильное раздражение нервов, и я все плачу». — «У нас с братом были маленькие неприятности, но сегодня все забыто: он дал мне крестики из Иерусалима». 25. — «Так было грустно; все что-то тревожит». И уже через два месяца, 22 июля, перед отъездом Гоголя: «Вчера мы все плакали. Тоска ужасная! Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает, но все же я его люблю, как отца». 24. — «Ах, как грустно!.. Все плакали…»
Вот настроение, которое распространяется, как темные лучи от Гоголя, «христианина», того самого Гоголя, который, во дни своего «язычества», был источником лучезарнейшего света, смеха и радости: теперь у всех на душе какая-то невыразимая тяжесть, тоска; одни плачут, другие пугаются; а Гоголь только зевает да раздает «крестики из Иерусалима». Любовь матери и сестер, рассказывает биограф, выводила Гоголя из себя, «заставляя его подозревать не христианскую, но земную, распаленную любовь к нему».
«При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его. Иисус, увидев Матерь и ученика, [3] тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. — Потом говорит ученику: се, Матерь твоя. — И с этого времени ученик сей взял ее к себе» (Иоанн XIX, 26–27). Так Сын Человеческий и на кресте любит Мать свою любовью земною, человеческой; когда плоть его ломима и кровь изливаема, утверждает он уже не во времени, а в вечности плотскую, кровную связь материнства и сыновства. Таков первоначальный солнечный белый свет христианства, который сияет и от Креста в ночи Голфгофы, устремляясь от первого ко второму пришествию; но когда белый свет христианства сделается темным, то сыновство и материнство, отчество и братство, все кровное, плотское, все живое умрет без воскресения в этом «темном свете» бесплотной и бескровной святости.
«Неужели чувство любви к родине у тебя высохло?» — спрашивает Гоголя один из его старых малороссийских приятелей. Да, именно «высохло», вымерло в нем все, или, по крайней мере, он хотел бы, чтобы все в нем высохло: в этой-то мертвенной сухости, страшной духовной сухотке и заключается, по мнению его — его ли одного? — христианская святость, «высота небесного бесстрастия».
В одном послеобеденном разговоре с дамами зашла речь о тогдашних изобретениях, — стеарин, дагерротип. «И на что все это надобно? лучше ли от этого люди?» — зевает Гоголь. Все молчат. «Я прежде любил краски, когда очень молод был!» — опять вдруг начинает он, точно спросонок. — «Да, вы могли бы быть живописцем, — замечает какая-то дама. — А прежде что любили?» — «А прежде, маленьким еще — карты». Дама: «Это означает деятельность духа»… Гоголь: «Какая деятельность духа! Половина России только и делает… Это бездействие духа»… Другая дама: «Николай Васильевич, скоро ли выйдет окончание „Мертвых душ?“» Гоголь, опять зевая: «Я думаю, через год». — «Так они не сожжены?» Гоголь: «Да-а-а… Ведь это только нача-ало было!..» «Он был сонный в этот день от русского обеда», — прибавляет автор записок.
В этом разговоре все обыкновенно, но именно своей обыкновенностью, «пошлостью, доходящей почти до фантастического», — страшно, может быть, страшнее всех исполинских «загробных страшилищ». Это продолжение серой слякоти над холмами Назарета; та серая паутина скуки, которая залепила нам глаза и которую мы называем нашим «христианским просвещением».
«Иногда страх врывается в сонную душу», — признается Гоголь. Но это уже не прежний, а какой-то новый страх. В нем зарождается самая «христианская» и, вместе с тем, самая чудовищная мысль о том, что ему нельзя спастись, что все равно, что бы ни делал, как бы ни каялся, — он погиб, что какое-то особое таинственное отвержение тяготеет на нем. «Мне труднее спастись, чем кому другому». «Страшусь, видя ежеминутно, как хожу опасно». — «Обо мне нужно молиться более, чем о всяком другом человеке. Если Бог меня не вразумит… участь моя будет страшнее участи всех прочих людей». «Молитесь, молитесь обо мне все!» — это однообразный неумолкаемый вопль его в течение многих лет.