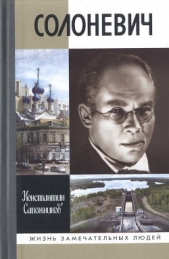«Всех убиенных помяни, Россия»

«Всех убиенных помяни, Россия» читать книгу онлайн
Имя Ивана Савина (1899–1927) пользовалось огромной популярностью среди русских эмигрантов, покинувших Россию после революции и Гражданской войны. С потрясающей силой этот поэт и журналист, испытавший все ужасы братоубийственной бойни и умерший совсем молодым в Хельсинки, сумел передать трагедию своего поколения. Его очень ценили Бунин и Куприн, его стихи тысячи людей переписывали от руки.
В книге «Всех убиенных помяни, Россия…» впервые собраны все произведения поэта и большинство из них также публикуется впервые. Материалы для книги были собраны во многих библиотеках и архивах России и Финляндии.
Книга Ивана Савина будет интересна всем, кому дорога наша история и настоящая, пронзительная поэзия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сопя и кашляя, громко плакал в углу пьяный политрук…
Там
Мой затерявшийся в бескрайних полях город, такой старомодный, такой пыльный, такой прелестный… Широкие улицы, еле сдерживаемые рядами хрупких домов: прозрачные глаза окон, днем — серые, с белыми ресницами дрожащих занавесок, вечером — темно-темно-синие, с яркими зрачками керосиновых ламп. Кривые доски тротуаров: над ними зеленые, мохнатые руки кленов и лип. Старый, сгорбленный собор над обрывом. Жизнь радушная, теплая, как солнце. Солнце, как жизнь…
А когда я проснулся, — в окно стучали капли чужого дождя. Чужое море билось в холодную стену скал. Чужое небо мутной сталью висело над чужим городом. Где-то ходили, смеялись непонятным смехом, говорили на незнакомом языке чужие, непонятные люди. И почему-то — странно скачет наша издерганная мысль! — вспомнил я эту грустную, такую обыкновенную в наше необычайное время, историю. Историю маленького человека, кровавым сапогом вдавленного в выгоревшую землю моего далекого-далекого, такого пустого теперь и страшного города.
Павел… Павел Харитонович? Да, его звали — Павел Харитонович. Много лет служил он в казначействе, исписывал толстые книги цифрами, щелкал на счетах и был счастлив. Невысокого роста, чуть сгорбленный, с лицом таким, какие бывают на старых выцветших фотографиях, он так шел к нашим серым улицам, к пыльной площади у кладбища.
Бог не дал ему детей, ему и жене его, такой же милой, как и сам Павел Харитоновичей супруги всю силу своей искавшей выхода любви обратили на двух собачек. Собачки эти — совершенно одинаковые, длинные, рыжие, на кривых лапах, помесь таксы с дворняжкой — всегда бежали впереди них мелкой размеренной рысцой, благовоспитанно виляя хвостами. Если Павла Харитоновича видели на улице одного, считалось чуть ли не долгом осведомиться о супруге: если оба они шли без собачек — собачки были больны или наказаны за какую-нибудь шалость. Над этой дружной семьей добродушно подсмеивались, но и любили ее с той почтительной мягкостью, которую таила в себе русская глушь.
Теперь и ее нет, ничего нет…
За несколько лет до революции Павел Харитонович начал строить домик на Лисовской улице, где у него был купленный раньше клочок земли. Нанять рабочих он не мог — где столько денег взять? — и принялся сам за постройку. «Склеить две комнаты с кухней — не бог весть какая сложная работа, да и знакомый подрядчик советами помогает», — говорил он.
Надо было видеть, с каким любовным усердием, даже нежностью, «супруги с собачками» месили глину, клали кирпичи, белили, суетились, бегали по городу с просьбой «занять, ну — рублей тридцать до двадцатого, до жалованья… Понимаете, все готово, только полы осталось выкрасить… пожалуйста!».
Наконец скромный дом был выстроен, скромное новоселье отпраздновано, и с лица Павла Харитоновича сошло выражение неустанных забот и усталости. На воротах зазеленела долгожданная табличка «Дом Павла Харитоновича Ч.», из окон выглянули горшки с геранью и рыжие морды собак.
Время шло. Дремлющей стаей проплыли годы мира; звоном искрящейся стали прогремела война; пронесся смерч революции. Рушились троны; в муках борьбы рождались новые государства; в пропасть безысходного горя впадали миллионы великого, обманутого народа… А в доме на Лисовской по-прежнему бродила добродушная тишина, цвела герань и смотрели из окон собачки, немного, впрочем, похудевшие.
— Смотрите, Павел Харитонович, — шутили иногда те, что не потеряли еще способности шутить, — отнимут у вас дом. Ведь вы буржуй, живете на нетрудовой доход. У вас, говорят, даже утки есть…
Павел Харитонович удивленно поднимал брови.
— Никогда этого не может быть. Ведь сам, понимаете, сам, своими руками построил свой дом. На трудовую копейку, собственным трудом заработанную… А вы говорите — нетрудовой доход. Шутник вы, право…
Так в простоте сердечной думал маленький человек, потом и недоеданием создавший свое маленькое благополучие.
Но пришли большие люди. Люди, считавшие себя большими… Люди, не брезгавшие и такой копейкой — «с миру по копейке — коммунисту рубль»… В прошлом году Павла Харитоновича «уплотнили» — вселили в одну из комнат беспокойную, нахальную семью, криками и бранью наполнившую его безмолвный домик. Через месяц эта семья заняла и вторую комнату, вытеснив хозяев в кухню.
Павел Харитонович смирился, молчаливо перенес это горе. Он ходил по двору еще больше пожелтевший и осунувшийся, утром и вечером убирал сор, выброшенный жильцами из окон, виновато улыбался, когда над ним грубо смеялись его неожиданные квартиранты, и молчал. Только один раз сказал незлобно:
— Вот вы рубите дрова в комнатах, портите полы… А мы с женой по ним лазили, сами грунтовали, красили… сколько труда… Если вам не хочется выходить во двор, то вот — на крылечке можно или в сенях…
За это у него отняли кухню и милостиво разрешили жить в сарае. Быть может, и до сих пор они, четверо — два маленьких человека и две маленькие собаки, — жили бы, тесно прижавшись друг к другу, в маленьком сарае под соломенной крышей, если бы большие люди не вздумали еще раз пошутить над ними, лишить их последней радости — уток. Павел Харитонович аккуратно собрал под окнами перья — такой смешной! — пошел жаловаться кому-то, показывать вещественные доказательства кражи…
…Его выгнали со двора совсем, — сарай нужен был для дров.
— Фюйт! — свистнул ему вслед один из жильцов, — Жаловаться? Ах ты, лизун буржуйский, крыса казначейская! Тоже домовладелец выискался… «Мой дом, мой дом!»… Какой это, дурак, твой дом? Народный, а не твой… Ну, при, при ко всем чертям, да не оборачивайся, а то еще в морду дам!
А через два дня на базаре шушукались бабы: «…Вин дистав десь (где-то) ливорверт… убыв одного жильця, раныв трех… та и выбиг, як самасшедший, на вулицю… схватылы его, а вин плаче…»
…Павла Харитоновича расстреляли. Жена его сошла с ума. А рыжих собачек кто-то в приступе жестокой жалости убил у родных ворот…
В мертвом доме
Потому ли, что с убаюкивающей монотонностью падала стена снега или, меняя на тридцать девятой версте лошадей, он выпил у председателя волостного исполкома слишком много церковного вина, как-то сразу напоминавшего и деревянную церковку, и отца Стефана в лиловой рясе, — но казалось теперь Хорову, что ему не под сорок, а только восемнадцать лет, что он не истрепанный, не желчный, не следователь по особо важным делам, едущий в Пеньков по делу о контрреволюционном заговоре бывшего дворянина Трибицкого, а реалист выпускного класса Петенька Хоров, на рождественские каникулы едет домой, в село Большие Холмы, и его укачивают родные с детства розвальни.
Вот так и было: летели мотыльки снега, тихонько визжали полозья, на козлах, завернувшись в баранью шубу и рваное одеяло, покачивался Федька — мужик степенный, какую-то большую думу затаивший в маленьких, запавших внутрь глазах. Плыли версты, легкие и сонливые; рассыпалось небо белым дымом; иногда левая пристяжная начинала ни с того ни с сего прыгать и кусать коренника, и тогда Федька, недовольно крякнув, бил ее в круп ногой в огромном валенке.
Дома Петенька с полчаса переходил из объятий в объятия матери, мелкой помещицы, в несменяемом капоте с зелеными разводами, сестренки Сони, радостно хлопавшей в ладоши, отца, вечно страдавшего зубной болью, каких-то почтенных старушек, няньки Лизаветушки. Все это суетилось, засыпало вопросами, рассказывало самые свежие новости и слухи Больших Холмов.
А когда, умывшись и важно закурив папиросу, шел Петенька в столовую, все — и мать, и отец, и Соня, и старушки, и Лизаветушка — двигались за ним, как свита. В столовой, между буфетом и потрескавшейся картиной Маковского «Поцелуйный обряд», в кресле с золочеными ручками обыкновенно сидела Ляля, младшая дочь отца Стефана, с утра ожидая Петеньку. Он подходил к ней, розовый от молодости и смущения, ласково подавал руку, а свита впивалась им в лица и дурачливо кричала: «Горько!»