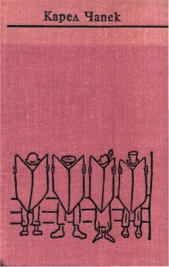Том 5. Очерки, статьи, речи

Том 5. Очерки, статьи, речи читать книгу онлайн
Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.
В пятый том собрания сочинений вошли очерки, статьи, речи, рецензии, отчеты, заявления и письма в редакцию, ответы на анкеты, приложения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Достойный современник Надсона и муза его:
Некрасовским стихом без некрасовской мощи отвечает поэт на ее «кроткую речь»:
Она водит его в «жилища грязные труда и нищеты» и велит «почитать их как храмы». Он сравнивает свою судьбу с судьбою пахаря, трудящегося «над нивою сердец», он слезно плачет о «таинственном народе», который кажется ему «Танталом», а Россия — «библейскою вдовой». Он привычно бичует толпу, которая съезжается слушать модного «тенора», Отелло.
Полно, так ли? Лицо венецианского мавра — черно-коричневое, где же различить, что в нем нет «кровинки»?..
Да, красиво: «чайками в грозу». Но разве так? Не для «красного ли словца» эти «чайки в грозу»? И не чувствуется ли во всем этом какая-то холодная торжественность, напыщенность романтических видений, которые скрывают от самого поэта искреннее его души? Ведь если бы он не видел так много аллегорических снов, не вспоминал о «сфинксах», о «библейской вдове», о «медлительной няне» пред лицом своей родины, — он увидал бы, может быть, совсем иное. Да полно, истинная ли это родина, кровно ли связан с нею поэт?
Да, это очень ценное признание:
Да, они «громили ложь», «жаждали жертв» и «шумели в столицах».
Ответит Россия… если соблаговолит ответить. Ведь за «сермяжным горем», торжественными неурожаями и соболезнующей интеллигенцией скрывается еще лукавая улыбка, говорящая: «мы — крестьяне, а вы — господа, мы у себя в деревне, а вы у себя в городе». Улыбка эта не сойдет с лица русской земли, а, пожалуй, расплывется еще на целую плутовскую харю, когда образованный писатель воскликнет с горькою укоризной:
Гораздо уместнее этот пафос в городских описаниях, когда поэт говорит о празднике перед статуей Свободы или о казни молодой девушки:
Впрочем, едва ли может «вспыхнуть залп огней». Не говорится также «лозунги», «губящий», и много в языке Минского уловимо и неуловимо нерусских выражений, еще больше чужой бутафории и отвлеченной схематичности, которая заставляет нас видеть в его «сермяжном горе» — «холодные слова», его — писать безвкусную и трескучую рабочую Марсельезу.
Что же дальше? Дальше мы вправе требовать горестных признаний, покаяния, исповеди. Ведь произошло непоправимое, если верить истории души, рассказанной в «гражданских песнях». Мы знаем, что значит урезывание своих надежд, прощание с родиной, и жестоко требуем, чтобы «душа сказалась», хотя бы изошла кровью… И что же? Нас встречает тот же холод. Так легко национальное заменить международным, русскую сермягу — пролетарским солнцем, землю — неземным мистицизмом?
Новая муза сказала поэту:
О, если бы хоть здесь поэт оставил отвлеченный пафос, ему дано было бы, может быть, «уязвлять печалью сердца»! Но нет, он точно возгордился; точно и не произошло ничего; и недоверие становится каким-то злым и жестоким, чем дальше углубляешься в «молитвы новые», в «песни любви», чем лучше встречаешь стихи (а стихи действительно становятся все лучше, все легче).
Не уязвляется сердце печалью, не отзывается больше на лучшие стихи и даже злобится как-то: что же, было что-нибудь или ничего не было! Были народ и родина или нет? И душа торопится отвечать: нет. Чем дальше, тем больше торжествует схема, отвлеченность, книжность.
и т. д.
Как хорошо, как точно! Что же это — действительно — «портрет», человек или декадентская муза, созданная по рецепту, так что даже «лучи в ее изменчивых чертах» развешены на аптекарских весах? Не верю, не верю ни одному слову, не верю аптекарскому равновесию созданий божьих — людей и стихов, не вижу ни одной черты осязаемой, живой, искренней. Вначале был самообман — «родина», «народ», теперь подкралась ложь, мертвечина, симметрия. Как могу я поверить в то, что так страшно симметрично, в «богофильство» и «богофобство» Волынского, в «верхнюю и нижнюю бездну» Мережковского, в «два пути добра» Минского!