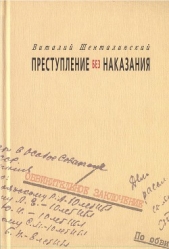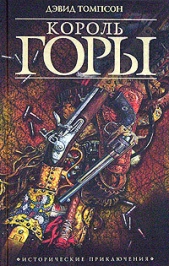Рабы свободы: Документальные повести

Рабы свободы: Документальные повести читать книгу онлайн
Книга посвящена судьбе Русского Слова, трагическим страницам нашей литературы. В ней рассказывается о писателях, погубленных или гонимых тоталитарной властью.
Повествование основано на новых документах и рукописях, которые автор обнаружил и исследовал, работая в архивах КГБ и Прокуратуры СССР как организатор и руководитель Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России. Среди героев книги — Исаак Бабель, Михаил Булгаков, Павел Флоренский, Николай Клюев, Осип Мандельштам, Нина Гаген-Торн, Георгий Демидов, Борис Пильняк, Максим Горький.
"Рабы свободы" — результат многолетней работы автора над этой темой, которой посвящены и другие его книги: "Донос на Сократа" (М.: Формика-С, 2001) и "Преступление без наказания" (М.: Прогресс-Плеяда, 2007). Продолжение труда — новое, переработанное издание "Рабов свободы", дополненное и уточненное.
Издание иллюстрировано редкими архивными фотографиями и документами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
151-я статья — это «Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости». Судя по допросу, она к Клюеву совершенно не подходит. И потому статья эта была применена к Клюеву «через 16-ю», с оговоркой: «Если то или иное общественно опасное действие прямо не предусмотрено настоящим кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям кодекса, которые предусматривают наиболее сходные по роду преступления». «Это означает, — пишет биограф поэта Константин Азадовский, — что Клюев был „подведен“ под 151-ю статью, в действительности же его „преступление“ носило иной характер. Какой именно? Не считаем нужным — в данном случае — докапываться до истины».
На допросе 15 февраля 1934-го Клюев говорит, что читал отдельные стихи, «в том числе и стихи о Беломорском канале, — проживающему в одной со мной комнате поэту Пулину».
Обвинительное заключение гласит: «приведенные показания Клюева виновным его в составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений и в мужеложестве подтверждают». Однако в протесте прокурора при реабилитации поэта в 1988-м сказано: «Следствием не доказана вина Клюева и в совершении им актов мужеложества».
Дело № 3444 было заведено на двоих: на Клюева — обвиненного по двум статьям, и на Пулина — только по статье 16–151. Но 2 марта следователь составил постановление, в котором «нашел, что дело в отношении Пулина Льва Ивановича требует дополнительного доследования, и потому постановил: выделить дело Пулина Л. И. в особое дело и следствие по нему продолжить. Справка: Пулин Л. И. арестован 2 февраля и содержится в Бутырском изоляторе».
В следственное досье Клюева попало после обыска — гребли поспешно, в одну кучу! — множество записей, мелких бумажек и обрывков Льва Пулина, жившего у Клюева молодого человека, студента. Например, черная записная книжка его, в которой есть «тайник»: внутрь обложки вложена обрезанная круглая фотография — головка красивой девушки. Есть и стихи Пулина:
На заседании коллегии ОГПУ 5 марта 1934 года дело Клюева шло по счету восемнадцатым — поток! Постановили: заключить в концлагерь на пять лет, с заменой высылкой в Сибирь, в Нарымский край, на тот же срок.
Добравшись до места ссылки, Клюев пишет своему ближайшему другу, поэту Сергею Клычкову: «Я сгорел на своей „Погорельщине“, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском [116]. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Федора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев, на верную и мучительную смерть… Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей… Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер — это зовется здесь летом, затем свирепая пятидесятиградусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали в общей камере. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?!»
А в это время в Москве с большой помпой проходит Первый съезд советских писателей. Клюев послал заявление-письмо на съезд. Даже не обсуждали — не до того! Никто из делегатов не смел коснуться в своих речах опасной темы, никто не вспомнил об опальных коллегах, все они приветствуют светлое настоящее и еще более светлое будущее, в котором многие из них скоро пойдут той же скорбной дорогой на эшафот.
С каждым годом эта кровавая писательская стезя будет становиться все шире и многолюднее. Приговорят к расстрелу и Сергея Клычкова, который, рискуя жизнью, связывал ссыльного Клюева с внешним миром. И еще два имени, которые поминал Клюев в своих сибирских письмах: Осип Мандельштам, тоже отбывающий ссылку («Как поживает Осип Эмильевич? Я слышал, что будто он в Воронеже?»), и Павел Васильев («Неужели он пройдет мимо моей плахи — только с пьяным смехом?» «Виноват он передо мной черной виной…»), — через несколько лет и они — собрат Клюева по несчастью, и ученик, предавший учителя, — погибнут, один в лагере, другой от пули чекистского палача.
1935 год Клюев встретил в Томске, куда был переведен из Колпашева. Вроде бы послабление — большой город и чуть ближе к Москве, но та же Сибирь и то же бесправие ссыльнопоселенца. Положение поэта не изменилось к лучшему: по-прежнему ютился у чужих людей, нищенствовал, голодал — по воскресеньям ходил на базар за милостыней.
— Вон ссыльный дедушко идет! — кричала детвора. Дедушке было пятьдесят лет.
Как раз в это время в Москву, к Горькому, приехал в гости из Парижа Ромен Роллан, — советская пресса раструбила это событие на весь мир. «Как гостил Жан-Кристоф? — спрашивает с горькой иронией Клюев в одном из писем. — Увидел ли он святого Христофора на русских реках?» (о Кристофе-Христофоре, который переносит через бурный поток младенца — Грядущий день, идет речь в романе Роллана «Жан-Кристоф». Клюев не стал обращаться к знаменитому писателю, хотя тот мог бы попытаться помочь — его принимал в Кремле сам Сталин. Видимо, не верил в успех. Не стал обращаться и к Горькому: «Горькому я не писал — потому что Крючков [117] все равно моего письма не пропустит». Русскую реку переходил не святой Христофор, а слуга Сатаны — Христофорыч…
И все же поэт продолжал работать — не мог жить без стихов, записывал отдельные строфы на чем придется — на обрывках бумаги, клочках от бумажных кульков…
С неумолимой достоверностью предстает из материалов КГБ финал жизни Николая Клюева, который еще до недавних дней был загадкой. По одной версии он умер от сердечного приступа на какой-то железнодорожной станции, и при этом у него исчез чемодан с рукописями (даже посмертная легенда связывает судьбу поэта с его рукописями!). По другой — скончался в Томской тюрьме. По третьей — не просто в тюрьме, но в тюремной бане, — об этом рассказывала, со слов некоего священника, Анна Ахматова — случай, в точности похожий на смерть Мандельштама…
И лишь когда удалось распечатать лубянское досье поэта и еще одно следственное дело, уже 1937 года, найденное в Томском управлении КГБ, сомнения рассеялись, заговорили факты.
В марте 1936-го жизнь Клюева снова повисла на волоске. Последовал новый арест и тюрьма. Арестованный был так слаб и болен, что содержать его пришлось не в камере, а в тюремной больнице. В июле его выпустили, временно, видимо, не хотели, чтобы он умер в руках чекистов. Из тюрьмы поэт вышел уже окончательным калекой, много месяцев не мог подняться с постели. «Если меня еще раз обидят и арестуют, — писал он в своем последнем послании друзьям, — я этого уже не вынесу, так как сердце мое уже не выдержит страданий, поминайте меня тогда на погосте».
Подтверждение стихотворным озарениям Клюева — его сны, видения, которые можно издать отдельной книжечкой, как особый художественный жанр. Среди них есть такой, ранний, погибельный сон 23 февраля 1923 года:
«Взят я под стражу… В тюрьме сижу… Безвыходно мне и отчаянно… „Господи, думаю, за что меня?“ А сторож тюремный говорит: „За то, что в дневнике царя Николая II ты обозначен! Теперь уж никакая бумага не поможет!“ И подает мне черный, как грифельная доска, листик, а на листике белой прописью год рождения моего, имя и отчество назнаменованы. Вверху же листа слово „жив“ белеет… Завтра казнь… Безысходна тюрьма и не вылизать языком белых букв на черном аспиде».
Вспоминается очень точная фраза друга Клюева, Сергея Клычкова, которую какой-то секретный агент донес на Лубянку: «Сдан заживо в архив — Клюев, осужден. Пропечатан в черных списках».