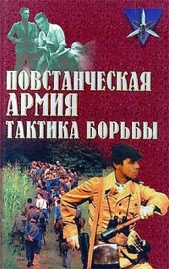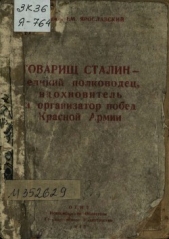Сталин и писатели Книга четвертая
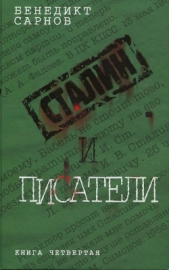
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
► У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь — его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ.
То, что Леопольд был племянником давно умершего Свердлова, в 30-е годы уже большой роли не играло. Иное дело — родственная связь с всесильным Ягодой. А кроме того — по другой семейной линии — у него была еще одна дорожка в Кремль: он был женат на дочери Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Бонч был, конечно, не столь влиятелен, как Ягода, но эта родственная связь тоже давала юному Леопольду ощущение близости к высшим тогдашним партийным и государственным кругам:
► ...когда руководство РАПП было еще единым, мы не раз бывали у него в Кремле. Там на квартире известного государственного деятеля Вл. Дм. Бонч-Бруевича, тестя Леопольда Авербаха, собирались, бывало, пролетарские писатели, читали новые произведения, спорили, слушали музыку, танцевали.
Авербах, Киршон и Либединский были в Кремле своими людьми.
Тут важна первая фраза этого мемуарного фрагмента: «Когда руководство РАППа было еще единым».
Единым оно оставалось еще некоторое время и после постановления Политбюро о ликвидации РАППа. В мае у них еще были надежды на сохранение в будущем Союзе писателей своей руководящей роли. Но к осени эти надежды, как видно, уже развеялись. И тут эта компания недавних друзей и единомышленников раскололась на два враждующих лагеря.
► ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
В.В. ЕРМИЛОВА
В ПАРТКОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ,
А.С. ЩЕРБАКОВУ
15 апреля 1936 г.
Известно, что рапповцы встретили апрельское постановление ЦК ВКП(б) отрицательно и препятствовали исторической перестройке литературного фронта, вытекавшей из постановления. В течение лета 1932 года, вплоть до 1-го Пленума Оргкомитета Союза писателей, вся рапповская группа в целом играла политически вредную роль, всячески тормозя в сложных условиях реализацию постановления ЦК, дезориентируя и дезорганизуя литературную среду. К осени 1932 года, к моменту 1-го Пленума Оргкомитета, произошел в чрезвычайно резкой форме решительный разрыв между той частью бывших рапповцев, которая встала на партийные позиции (тт. Фадеев, Либединский, Чумандрин, Ермилов), и той частью, которая продолжала оставаться на позициях воинствующей групповщины (тт. Авербах, Макарьев, Киршон, Афиногенов и др.). Для характеристики обстановки необходимо подчеркнуть, что озлобление тт., оставшихся на групповых позициях, против тех, которые порвали с групповщиной, было исключительно велико, носило явно непартийный характер. Тех, которые отошли от групповщины, эти товарищи буквально травили как «предателей», «изменников», в борьбе с которыми все средства хороши. О степени и силе этой озлобленности можно судить по тому, что она не погасла даже до сих пор, хотя литературная обстановка с того времени совершенно изменилась. Товарищи, стоящие тогда на ярко групповых позициях, и до сих пор продолжают считать тех коммунистов, которые осенью 1932 года порвали с групповщиной, чуть ли не главными виновниками всех трудностей в литературе и уж во всяком случае «виновными» в том, что тов. Авербах не работает сейчас в литературной области, о чем они неоднократно высказывались. В то время, о котором идет речь, эти тт. отнюдь не считали нужным прикрывать чем-либо свою озлобленность и открыто говорили о «предательстве друзей» и о прочем.
Объяснительная записка эта сочинялась в апреле 1936 года Еще жив покровительствующий Авербаху Горький (он умрет только через два месяца). Авербах уже «не работает в области литературы», но быстро ориентирующийся в обстановке Ермилов еще называет его (как и других «групповщиков») товарищем.
Пройдет совсем немного времени, и о них заговорят уже совсем другим языком. И не только в закрытых объяснительных записках, но и в открытой печати. «Шпионы», «бандиты», «фашистские прихвостни» — таковы будут самые ласковые, самые нежные словесные характеристики, которыми станут их награждать.
Произойдет это потому, что после падения Ягоды все они будут арестованы и превращены в «лагерную пыль».
Хотя — нет, не все. Один из них (я имею в виду тех, кого упомянул в своем доносе Ермилов) уцелеет. Это был знаменитый в те годы драматург — и тоже один из руководящих деятелей РАППа — Афиногенов.
Его Сталин почему-то решил пощадить.
Но — не сразу, не сразу.
Его тоже (чуть ли не в один день с Авербахом, Киршоном и Макарьевым) исключили из партии. Но в отличие от них, сразу оказавшихся в пасти ГуЛАГа, он не рухнул в пропасть, а повис над ней. Со дня на день он ждал ареста, и пытка эта продолжалась одиннадцать месяцев. А потом стальные челюсти вдруг разжались.
Что же касается тех бывших рапповцев, о которых Ермилов в своем доносе говорит, что они сразу «встали на партийные позиции» (Фадеев, Либединский, Чумандрин, да и сам он, Ермилов), то их чаша сия миновала. Они уцелели все. А Фадеев не только уцелел, но и, как было уже сказано, резко пошел в гору.
Казалось бы, такой человек, как Авербах, был гораздо лучше приспособлен для роли «литвождя», чем Фадеев. Во всяком случае, по логике вещей ему гораздо легче, чем Фадееву, было бы «сработаться» со Сталиным Ведь он (если принять на веру, что Борис Левин в своем романе изобразил его правильно) литературу не любил. Не любил и — не понимал, не чувствовал:
► Ни одна строчка Пушкина не заставила сердце Бориса забиться хоть немного учащеннее, ни одна искра Бетховена не зажигала в металлических глазах освобожденного от деляческого беспокойства света. Искусство было доступно Борису в голых, узко логических очертаниях. Он изучал его с злобным рвением первокурсника-медика, исследующего человека по анатомическому атласу... Таким образом, гениальнейшие страницы великих писателей оставались затонувшим золотым грузом. Вся же огромная сокровищница их страниц сводилась к инвентарно-скудным каталогическим выжимкам... Прочитав наедине книгу, о которой он ранее ничего не слышал, Борис не знал, куда ее определить. Он совершенно не знал, понравилась она ему или нет, хороша она или плоха, вредна или полезна.
А Фадеев литературу любил. И поэтому у него, — как у всякого нормального человека, — были книги любимые и нелюбимые. И любимые строки любимых поэтов заставляли его сердце биться учащеннее. И любимые страницы любимых книг хватали его за душу, тревожили, волновали, исторгали из его груди то смех, то слезы. А у Сталина, как мы знаем, были свои критерии, свои представления о том, какая литература полезна, нужна народу, а какая — вредна. И по должности «литвождя» Фадеев обязан был исходить не из своих литературных привязанностей и вкусов, любовей и нелюбовей, а из этих, сталинских критериев и представлений. И вот тут-то с ним происходило то, что великий физиолог Иван Петрович Павлов обозначил словом «сшибка».
Слово это я впервые прочел не у Павлова, а в романе Александра Бека «Новое назначение», в котором оно — это слово — играет весьма важную, можно даже сказать, ключевую роль. (Одно время Бек даже собирался сделать его заглавием своего романа.)
Позже, чтобы лучше понять природу литературной и человеческой драмы (можно даже сказать — трагедии) Фадеева, нам придется глубже вникнуть в сюжет этого романа. Пока же я ограничусь прикосновением лишь к одному его эпизоду. Тому самому, где впервые возникает это загадочное слово — «сшибка».