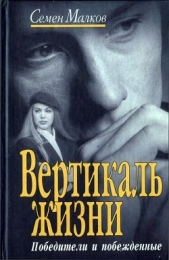Советская литература: Побежденные победители

Советская литература: Побежденные победители читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да Высоцкий, недаром одинаково нравящийся как интеллигенции, так и презираемой ею «жлобской» публике, как раз и есть блистательный образец поп-искусства, его вершина. В признании чего нет ни малейшего уничижения; в этом смысле Высоцкого можно поставить рядом еще с одним народным любимцем, Михаилом Михайловичем Жванецким (р. 1934), одареннейшим литератором, тем не менее не существующим — или существующим только условно — вне эстрады. И если Ахматова имела резон сказать, имея в виду эстрадный успех Евтушенко, Вознесенского или Ахмадулиной: ничего удивительного, просто это — другая профессия, то по отношению к Высоцкому подобное никак не должно выглядеть упреком. Да, другая, только и всего.
Сама по себе формула: «Поэт в России больше, чем поэт», исторически совершенно справедливая, означала и пиетет, традиционно питавшийся к стихотворцам, и опасность, что «больше» превратится во «вместо». Да и превращалось множество раз — когда слабенький Надсон затмил Тютчева для читателя, не внявшего пушкинской заповеди, выпаленной в полемике с Жуковским: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии — поэзия…». Или когда Некрасов был интересен публике не потрясающим Власом, но дидактическими Размышлениями у парадного подъезда. Что в совокупности не проходит даром ни для читателей, ни для поэтов, и не зря автор справедливо-опасной формулы рифмой для слова «эстрада» в одноименном стихотворении сделал — «растрату». «Эстрада, ты давала мне размах, / но отбирала таинство оттенков. / …Я научился вмазывать, врезать, / но разучился тихо прикасаться».
Все это заразительно, проникая в гены даже идущих следом, кто, по обычаю всех наследующих, заявляет о непричастности к предшественникам и тем более к их ошибкам. И когда вопреки и назло «эстрадным» поэтам начнут пропагандировать творчество представителя «тихой» поэзии Николая Михайловича Рубцова (1936–1971), то это будет сопровождаться напором, соприродным как раз эстрадному. Хотя Рубцов — не «новый Есенин», как и не «Смердяков русской поэзии» (писали о нем, опять же в жаре полемики, и этакое, подтверждая обоснованность клички строчками, в самом деле свидетельствующими о катастрофической нехватке культуры). Он, рано погибший, задушенный собственной женой, которая не стерпела его пьяных унижений, и до того успевший-таки подрастратить природное нежное дарование, остался автором стихотворений, пленяющих естественностью. Немногих, отчего именно их обычно и цитируют, вознося поэту хвалу (заслуженную): «В горнице моей светло. / Это от ночной звезды. / Матушка возьмет ведро, / Молча принесет воды». Или: «Тихая моя родина! / Ивы, река, соловьи… / Мать моя здесь похоронена / В детские годы мои. / — Где тут погост? Вы не видели? / Сам я найти не могу. — / Тихо ответили жители: / — Это на том берегу».
А уж когда ненавистники «эстрады» примутся как контраргумент выдвигать даровитого Юрия Поликарповича Кузнецова (1941–2003), вообще обнаружится следующее.
Мало того, что демонстративно явленное им, допустим, намерение склонить голову перед воплощением злодейства, детоубийцей леди Макбет («За то, что вам гореть в огне / На том и этом свете, / Поцеловать позвольте мне / Вам эти руки, леди») или многих шокировавшая строка «Я пил из черепа отца…» слишком напоминают приемы эпатажа, многократно испытанные, например, Вознесенским. Эпатаж несомненен, но важно и то, ради чего хотят этак привлечь наше внимание.
«Я пил из черепа отца…». В конце концов, и Пушкин в весело-кощунственном Послании Дельвигу советовал другу превратить череп давнего предка в винную чашу. Дело, однако, в том, что следует у Кузнецова после первой, шокирующей строки: «…За правду на земле, / За сказку русского лица / И верный путь во мгле. / Вставали солнце и луна / И чокались со мной. / И повторял я имена, / Забытые землей». И возникает желание проделать нехитрый эксперимент, заменив первую строчку — хотя бы, к примеру, так: «Я пил из пьяного корца…». Замена, конечно, сомнительная, но разве не сомнителен и весь строй стихотворения, держащийся на одной-единственной эпатажной строчке и в остальном представляющий набор тривиальностей?
Здесь властен закон не поэзии, а шоу-бизнеса, где весь смысл — самоутвердиться путем отторжения всех конкурентов. Буквально: «Звать меня Кузнецов. Я один. / Остальные — обман и подделка…».
«Эстрадной» поэзии 50-60-х такое не снилось, и один из самых эпатажно-самоутверждающихся ее поэтов, Андрей Вознесенский, просил у небес не более, чем: «…Пошли мне, Господь, второго, / чтоб вытянул петь со мной!». В сущности, скромно вторя мольбе Маяковского: «…Пусть / только / время / скорей родит / такого, как я, / быстроногого».
Так или иначе, законы эстрады, лестно воспринимаемой как трибуна, действительно жестки, и сегодня непросто представить себе, что ранний Евгений Евтушенко, эта, можно сказать, наиболее характерная, «знаковая» фигура поколения, начинал — если отбросить период робко-наглого ученичества — как поэт безотчетной пронзительности, недоумения, растерянности: «Наделили меня богатством. / Не сказали, что делать с ним». «А если ничего собой не значу, / то отчего же мучаюсь и плачу?!». «Обидели. Беспомощно мне, стыдно». «Мама, не пой ради Бога! / Мама, не мучай меня!». «Со мною вот что происходит: / ко мне мой старый друг не ходит…». Сам Бабий Яр, справедливо расцененный в свое время (1961) как «акт гражданского мужества» и вызвавший ярость антисемитов, — это тоже плач, вопль, ежели и подпорченный в качестве такового, то именно чрезмерным сознанием значимости оного «акта».
При этом: «Я целе- и нецелесообразный… / Границы мне мешают… Мне неловко / не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка». В дальнейшем, как известно, перестанут мешать, обрушится — как результат путешествий — лавина «заграничных» стихов, а заграница, как экзотическая декорация, заставляла и позы принимать подстать антуражу, вызывая на роль полномочного представителя собственного государства. Правда, все же не на роль глашатая идей коммунизма, чем на долгие годы сделал себя Роберт Иванович Рождественский (1932–1994), который ради этого пожертвовал лирико-ироническим складом своего дарования. Снова явив его лишь в трагической ситуации, после тяжкой болезни и в предчувствии скорой смерти: «Тихо летят паутинные нити. / Солнце горит на оконном стекле… / Что-то я сделал не так? / Извините: / жил я впервые / на этой Земле. / Я ее только теперь ощущаю. / К ней припадаю. / И ею клянусь. / И по-другому прожить обещаю, / если вернусь… / Но ведь я / не вернусь»…
Нет. В «первой реальности» Евтушенко бывал крепко ругаем властями, дерзил им, а в позорном для СССР 1968 году сочинил стихи протеста против ввода советских войск в Чехословакию: «Танки идут по Праге… / танки идут по правде…»; в реальности «второй», в творчестве, также натворил немало, властями не одобряемого, а все ж и над ним соблазнительно реяла тень «Владим Владимыча», отстаивающего за рубежом нашу «собственную гордость».
«Я целе- и нецелесообразный…» — это самоутверждающийся крик экстраверта, хотя по своей изначальной природе Евтушенко — показательный интроверт: «Как стыдно одному ходить в кинотеатры / без друга, без подруги, без жены… / Жевать, краснея, в уголке пирожное, / как будто что-то в этом есть порочное…». Даже его тяга к лиро-эпическим конструкциям вроде поэмы 1964 года Братская ГЭС, тяга к скоплению энтузиастов, создающему для поэта иллюзию, будто оно-то и есть народ, может быть, тоже от «комплексов»? От сознания одиночества? От тщательно скрываемой — и по-своему трогательной — неуверенности в себе?
Это, отметим, при бойцовских качествах и полководческих амбициях Евтушенко, которые были востребованы общей драмой существования и выживания поэзии в условиях, для того мало пригодных. Только Евгений Винокуров, к примеру, по российской привычке становиться оптимистом от отчаяния говорил: настоящего художника цензура загоняет вовнутрь. Булат Окуджава с игровой легкостью называл свои стихи, изображающие безответственность наемника («А если что не так, не наше дело, / как говорится, родина велела…») Песенкой американского солдата, при общей любви к нему вызывая этим не нарекания, а понимающую усмешку. Евтушенко с цензурой играл в перегонки, заигрываясь, как бывает с азартными игроками. Обыгрывал ли?