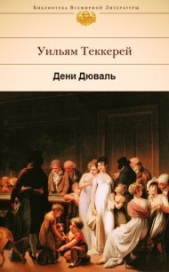Записки викторианского джентльмена

Записки викторианского джентльмена читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я уже говорил вам и скажу еще раз: работа, стоит лишь ее начать, прекрасно заживляет раны и возвращает бодрость духа. Но в данном случае осмелюсь утверждать, что - "Эсмонд" сделал для меня гораздо больше - нет, он не просто спас меня от помешательства, заняв мой ум работой, не просто заполнил день размеренным трудом, без которого часы тянулись бы как годы, не просто послужил бальзамом для моего израненного сердца, заставив меня напряженно мыслить, а значит, отвлекаться, - благодаря ему я пережил катарсис. Я словно шел по беспросветно-темному туннелю, боролся, чтоб нащупать выход, и, наконец, весь в грязи, бледный, обессиленный, но живой, выбрался на божий свет. Однако никто не ощутил той мощи и того страдания, которое, как мне казалось, я вложил в этот роман, читатели увидели в нем лишь странную любовную историю, ничуть их не растрогавшую. Тут я немного забегу вперед и расскажу, что на эту книгу, написанную в самое мучительное для меня время, появилась по ее выходе убийственная рецензия в "Таймс", невероятно поверхностная и злобная, - когда я прочел ее, меня просто затошнило от отвращения. Меня не волновало, как это скажется на продаже книги, мои издатели и без того готовы были предоставить мне внушительный аванс на следующий роман, но я испытывал невыразимое презрение к ее рецензенту - тупице, который ухитрился ничего в ней не заметить. Он даже заставил меня перечитать мое творение и убедиться, что я вовсе не такой глупец, каким стал себе казаться с его легкой руки, напротив, я ощутил уверенность и нечто вроде гордости. Да, в "Эсмонде" есть боль - но это боль любви, которая проходит трудный путь, - и сокрушение сердца, и сила чувств, которые мы пробуем преодолеть и подавить, но уступаем их напору. И значит, я добился своей цели, а это все, что может совершить художник.
В ноябре того же 1851 года, печальные события которого я, кажется, рассказываю добрую сотню лет, Брукфилд с женой, как мне и говорили, отправился на Мадейру и предоставил в мое распоряжение все беговое поле, впрочем, не знаю, зачем я сравниваю жизнь с бегами. Я лишь хочу сказать, что с их отъездом нашим общим друзьям стало дышаться легче, - они перестали опасаться, как бы мы с Брукфилдами - случайно или намеренно - не оказались в одной гостиной. Не то чтобы нас никогда не приглашали вместе и, отправляясь в гости я не проверял заранее, позвали ли их тоже, однако во всех домах, где мы бывали, и гости, и хозяева чувствовали себя напряженно. Порой я сталкивался с Джейн, осунувшейся и печальной, в театре, она улыбалась и храбро мне кивала, но при виде выступавшего с ней рядом мужа у меня от гнева, который, как мне казалось, я давно изжил, мутился взор. Бывало, раздавался смех, и, обернувшись, я видел Джейн в заполненной людьми гостиной и, радуясь ее веселью, хотел приблизиться, поцеловать ей руку, но тут же с горьким чувством удалялся, заметив рядом Уильяма. Наша тайная переписка продолжалась, но я возненавидел это жалкое притворство: раз нам не на что было надеяться, по мне уж лучше было все отрезать и соблюдать правила игры.
Как только Брукфилды покинули арену (я снова выбрал неудачный образ, но думаю, что в самом деле напоминал измученного пикадорами быка), хотя бы часть моих терзаний кончилась, и я возблагодарил судьбу. Навалившаяся пустота была ужасна, но целительна. Мне больше незачем было ездить мимо безлюдного дома на Кэдоген-сквер - его зашторенные окна ясно говорили, что жизнь там замерла, я перестал встречать его владельцев, черты их лиц не вспоминались мне так живо. Облик и голос Джейн всегда были со мной, но и они, питаемые лишь воспоминаниями, потеряли надо мной былую власть. Мой сон улучшился, и даже дышать стало легче с тех пор, как меня перестало будоражить ее присутствие. Меня по-прежнему влекло к ней, но взглянув на вещи цинично (а я тогда вдруг сделался ужасным циником), я пришел к выводу, что острота моего состояния во многом объясняется обычной тягой к женщине и вовсе не обязательно, чтоб этой женщиной непременно была Джейн. Но тут уж мне никто не мог помочь: на званых вечерах, которые я посещал с натянутой улыбкой, меня представили несметному числу прелестных юных дам, но ни одной я не прельстился. После Джейн все они казались невзрачными, не умели сказать двух слов, не впав в банальность, - им было далеко до гибкого ума Джейн, и никому из них я не был интересен, разве только как новый экспонат в коллекции скальпов, тогда как Джейн заставляла меня верить, что каждую новую мысль я передаю ей в законное владение. О Джейн, что ты со мной сделала - я больше не гожусь для жизни! Ведь то была не только жалость, правда? И ты не поддалась приманке окружавшей меня славы, в лучах которой тебе, нравилось купаться? А может быть, я был навязчив и не заметил твоего намека? Но нет же, нет, ты ни на что не намекала и не приказывала мне остановиться, ты верно понимала мои чувства - скажи, что это так!
Бог мой, ну что вы скажете об этом человеке - не написав и полстраницы о женщине, в которую он был влюблен двенадцать лет назад, он снова чувствует к ней страсть! Однако двенадцать лет - немалый срок, и чувство мое за эти годы очень изменилось. Наверное, будь я восемнадцатилетним юношей, все позабылось бы через неделю после отъезда Джейн на Мадейру, и я бы отыскал другой предмет для воздыханий, но в сорок лет сердечные раны затягиваются долго, и то было не увлечение, а любовь всей жизни. Прошли годы, прежде чем я научился не вздрагивать при виде ее имени, и лишь совсем недавно заметил всего какие-нибудь года два, - что больше не теряю голову в ее присутствии, нет, я не безразличен, но спокоен, уравновешен и могу смотреть на нее без волнения. Она по-прежнему красива и умна, но это уже другая женщина: мы разошлись и больше не близки, как встарь. Я все еще сожалею о несбывшемся, но чувствую при этом непоправимую отчужденность. Испытывает ли и она то же самое? Понимает ли, что огонь погас и вновь не возгорится, а если понимает, радуется или печалится? Надеюсь, что печалится. Тогда меня удерживали три невинные души - мои девочки и ее крошка, - при виде них смущавший мою душу враг рода человеческого удрал, поджавши хвост, и все же сейчас, когда я приближаюсь к концу жизни и знаю истинную цену любви, я не испытываю гордости от того, что призывал их ангельские образы, чтоб удержаться от поступка, которого так жаждал. Я вел себя как должно по всем человеческим законам, включая и свой собственный, но все- таки то было немыслимое расточительство. Я пренебрег даром судьбы - даром разделенной любви и не послушал внутреннего голоса, который мне твердил: "Действуй же, действуй, не думай о последствиях", и это трагично. Есть люди, пожертвовавшие всем ради любви: карьерой, видами на будущее, не посчитавшиеся с близкими людьми, и даже если им грозит утрата вечного блаженства, они про себя знают: счастье того стоило. Буря нагрянет и пронесется, грозные волны уйдут в океан, а впереди откроется тихая гавань. Так что скажу вам, дети мои, всякий плод да будет сорван вовремя.
13
Я покидаю Англию. Причины отъезда
Должно быть, после всех разыгравшихся в гостиной трагедий вам, как в свое время и мне, хочется прийти в себя и посмотреть, что делается в мире. Стоит нам захандрить, как медики усиленно рекомендуют смену обстановки и свежий воздух, - с вас пять гиней, сэр! - словно такой рецепт мы не могли бы прописать себе и сами. Бесспорно, путешествие пошло бы нам на пользу, вот только куда и с кем поехать и кто за все это уплатит? Врачи, конечно, не вникают в подобные материи, но если что нас и заставило просить у них совета, так это потеря всяческой инициативы, неодолимая вялость и полнейшая неспособность справиться со сборами в дорогу.
Однако невозможно лежать в постели и предаваться меланхолии, когда необходимо зарабатывать на жизнь, и в этой нашей подневольности, как мы ее ни проклинаем, как ни тяготимся - залог нашего спасения. Когда не действуют все прочие соображения, нас выручает забота о хлебе насущном. Холодная и неумолимая, она нас подгоняет и подталкивает в спину, так что в конце концов мы восстаем против ее тиранства и жаждем стать миллионерами, но если ими и становимся, как же нам не хватает висящего над головой дамоклова меча бедности! Спешу заметить, что я не стал миллионером и вряд ли стану, но больше не пишу для денег - теперь это уже не нужно. Однако у меня есть все основания радоваться, что в 1852 году я не мог освободиться от того, что называл проклятием труда, иначе и поныне влачил бы жалкое существование и так и не придумал бы, как по-настоящему встряхнуться, в чем, как все мы согласились, приспела великая нужда.