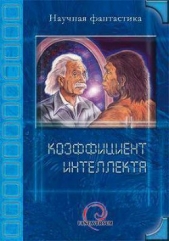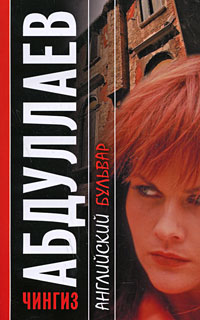Железный бульвар

Железный бульвар читать книгу онлайн
Самуила Лурье называют лучшим современным русским эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987), сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997), «Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002). «Такой способ понимать» (2007) и др.
Самуил Лурье — действительный член Академии русской современной словесности, лауреат премий им. П. А. Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.
В новой книге Самуила Лурье, вышедшей к его юбилею, собрана эссеистика разных лет. Автор предпринимает попытку инвентаризации ценностей более или менее типичного петербургского интеллигента. Разбирается, как взаимодействуют в его уме и в окружающей реальности Город и Литература. Фланирует по воображаемым улицам, разговаривает с призраками других авторов и чужих персонажей, строит домыслы о вымыслах, — все как обычно.
«Читать и перечитывать Лурье — полезно для здоровья. Быть может, он и не повысит наш гемоглобин, но собьет наши лейкоциты, ибо его тезис прост: культура возможна».
Дмитрий Савицкий (Париж).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С какой же стати воспоминание о них пробегает в мыслях Девушкина, пока он копошится у ног начальника? Неужто действительно — ни с того ни с сего?
Роман Леонара ему неизвестен. До знакомства с Варенькой наш герой прочитал — вы, конечно, помните — лишь три произведения словесности: «Ивиковы журавли», балладу Шиллера (из нее-то, несомненно, и почерпнув знание о справедливости); еще «Картину человека», умное сочинение Галича — в самом деле очень недурной учебник человековедения, — 613 параграфов: что такое гордость, что такое мнительность и чем страсть половая — любовь отличается от страстей одинокого быта, или чисто животного самолюбия и т. д. Маловероятно, что М. А. одолел всю книгу, вплоть до какой-нибудь семиотики телесной, — но кто же, если не Галич, укрепил его в мысли, что для настоящего человека наивысшим благом является досточтимость (А. С. Пушкин, слушатель первых лекций Галича, перевел бы: честь; ну а у Девушкина через каждые два слова на третье: амбиция)?
Читывал он и роман — тоже переводной, тоже с французского: «Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками» Дюкре-Дюмениля — и, должно быть, оттого с таким сочувственным интересом заглядывает в кареты знатных дам, проезжающих по Гороховой улице. В авантюрном этом романе бедный подкидыш, уличный музыкант, маленький курантщик, вызнав тайну своего происхождения и сделавшись в четвертом томе графом и богачом, на самой последней странице — «приказал высечь на фронтоне павилиона, во внутренности своего Замка, сии слова:
И теперь еще раздается в ушах приятный звук наших курантов».
Не этот ли перезвон слышен Девушкину в самую нелепую и жалкую минуту карьеры?
Но при чем Тереза и Фальдони, квартирная прислуга? Не щегольство ли тут литературное: смотрите, мол, как тонко подмечено, что человек в крайне затруднительном положении думает о самых отдаленных, совсем ненужных предметах?
«Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближался тот щастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их щастия…»
Так повествует Карамзин в «Записках русского путешественника» будто бы о действительном происшествии, случившемся в городе Лионе «лет за двадцать перед сим».
В последний момент отец Терезы передумал — отказал жениху, по какой-то там важной причине. И тогда влюбленные решились на совместное самоубийство: встретились за городом, в каштановой роще, «приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга — поцеловались — и сей огненный поцелуй был знаком смерти — выстрел раздался — они упали, обнимая друг друга…».
Приготовьтесь, читатель, еще к одной пространной выписке; я, в конце концов, не виноват, что старинные авторы бывали настолько красноречивы. Следующий пассаж многое объясняет, мне кажется, в «Бедных людях» — и в других созданиях русской литературы:
«Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одне заставляют меня плакать, другия возмущают дух мой. Есть ли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или есть ли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелесть жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства нещастного, и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны — чего более? Истинная любовь может наслаждаться и без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ея за отдаленными морями скрывается…»
И еще два периода в том же духе. Причем к словам «чего более?» Карамзин дает в сноске примечание: «Кто хочет, рассмеется».
Этот-то отрывок — с примечанием в придачу — я и назвал бы потайным эпиграфом «Бедных людей».
Если бы Достоевский думал, что в его романе никто никого не любит — например, хоть по вышеобъявленной причине: мол, в данной негодной социальной структуре некому и некого любить, — вся эта игра имен была бы пустой, никчемной, недоброй забавой. По-моему, это не так.
Возможно — более чем возможно, — что чувство, будто мир испорчен, изгажен чьей-то невообразимо огромной, беспощадно насмешливой волей, — не оставляло его.
Но, перечитывая первый его роман, трудно отказаться от мысли, что это — сочинение троих Д: Достоевского, Девушкина, Доброселовой; что в нем происходят среди прочих и такие события, которых Достоевский заранее не предвидел.
Можно ли было, скажем, предусмотреть — ведь другие романы Достоевского не были еще написаны, — что с конца июля, как раз когда раскроется обман и мнимое благополучие рухнет, — что с этого самого времени у героя и у героини переменятся голоса и чуть ли не роли, да как: Макар Алексеевич, вместо того чтобы поникнуть от вины и стыда, закуражится и закапризничает, — а в письмах Вареньки вместо отчаяния и обиды зазвенит такая жаркая тревога и жалость к старому безумцу — никакого сравнения с прежней грустной дружбой — прекрасный собою италиянец Фальдони позавидовал бы…
Так что не вовсе случайно развязка романа — возвращаемся к ней напоследок — напоминает решение лионских любовников.
Но точно ли бедность, одна только проклятая бедность всему причиной? То есть должно ли так понимать, что и Девушкин, и Варенька, в уверенности, что вдвоем не спастись, оба одновременно отталкиваются от слишком утлого для двоих плотика, захлестываемого судьбой, — чтобы не лишить другого ничтожной, ненужной, но единственной возможности выплыть?
Бедность и впрямь ужасна, бедность сжигает, как кислотой, какую угодно любовь, — так прочитал, например, «Бедных людей» молодой чиновник Салтыков и написал вслед повесть «Запутанное дело», в которой петербургский бедняк видит во сне, как женился на своей Наденьке, и вот уже ребенок у них умирает голодный, и она уходит из дому — продать себя богатому старику, чтобы только раздобыть денег — на гробик ребенку и ужин отцу, — впрочем, это уже Некрасов, тоже год 1847-й.
Но похоже, что и еще какой-то призрак держит Макара Алексеевича в оцепенении, заставляет разжать руки.
В XIX веке это было очевидно — оттого тогдашние критики и принимали молча развязку романа как наилучшую из возможных.
Они-то догадывались, отчего, как унизительную тайну, прячет Макар Алексеевич от соседей по дому свою с Варенькой связь.
И почему никак не отвечает на Варенькины слова, что никто, кроме г-на Быкова, не возвратит ей честное имя.
По-видимому, в сороковых годах сказанного столетия жениться, как Мармеладов, на вдове с тремя детьми, хоть бы и нищей, все еще казалось несравненно легче, чем взять за себя, как Покровский-старший, любовницу — жертву — так или иначе, наложницу — г-на Быкова.
И дело даже не в том, что Макар Алексеевич у нас — какой-никакой, а все-таки дворянин (выйди в свое время крестик — стал бы и потомственным, совершенно настоящим, никого не хуже… «ну да уж что!») и не забывает при случае ввернуть словцо «в своем смысле, в благородном, в дворянском-то отношении»…
Дворянство, быть может, и вздор, а вот Шиллер не вздор, «Коварство и любовь» не вздор:
«Как я посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который, по крайней мере, получает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложнице, которая желает отмыть пятно на своей чести в моем позоре?»
Как это в последней советской монографии — амбициозная психология? испорчен логикой социальной структуры? — вот-вот. Почти не имеет понятия ни о Шиллере, ни о Бомарше, — а ведет себя так, словно наслышан откуда-то, что борьба за права человека начиналась в литературе с борьбы за право первой ночи. Невольник амбиции.