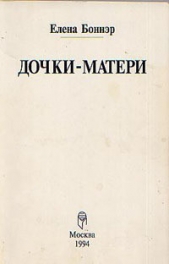Фиалки из Ниццы

Фиалки из Ниццы читать книгу онлайн
Как бы путешествуя во времени и пространстве, автор — физик и литератор — рассказывает об ушедших героях и преемственности исторической судьбы России. О том, что между Вяземским, другом Пушкина, и ныне живущим поколением — несколько рукопожатий. О том, что над недавними идеалами лучше всего смеяться, что на вопросы «что делать?» и «кто виноват?» пора уже не искать ответа. И о том, что терять надежды нельзя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На пятый день тетя Шура ушла из больницы на станцию. Там кто-то видел босую старуху в больничном халате. Она села в вагон поезда. Куда шел поезд — не известно. Не известно, как поступили с ней проводники. У тети Шуры не было ни денег, ни одежды, ни документов. Она не помнила, кто она и где ее дом…
Она оказалась в Ростове. Там ее подобрали на вокзале и приютили незнакомые люди. У незнакомых людей ее нашел Михалыч. Михалыч был бизнесмен. Он подбирал бесприютных старушек, инвалидов и детей и определял им выгодное место. Они собирали милостыню. Выгодные места были у церкви, у рынка и на Большой Садовой улице, бывшей Энгельса. Выручку Михалыч собирал вечером. Бездомные спали у него на квартире — в подвале старого дома возле Россельмаша. Там же и кормились. Михалыч был психолог. Узнав, что тетя Шура говорит по-французски, он заставил ее просить Христа ради на двух языках. Ростовские жители в массе своей французского не знали, но нищая старуха, говорившая по-французски, вызывала уважение, а вместе с ним и сострадание. Теперь тетя Шура сидела на тротуаре Газетного переулка, круто спускавшегося к Дону, держала в руках кружку и говорила прохожим:
— Je n’ai pas d’argent. Je veux manger [29]. Подайте Христа ради…
Она по-прежнему не помнила, кто она и откуда.
Когда прошло два месяца после отъезда тети Шуры, соседка Таня забила тревогу. Она позвонила Светлане. Светлана забеспокоилась, но ей было некогда. С мужем, директором банка, она собиралась на отдых в Испанию. Был конец октября, но на Майорке сезон не кончался. Светлана позвонила Саше в Чикаго. Саша прилетел в Москву не сразу. Его задержал в лаборатории какой-то важный эксперимент. К поискам он приступил только в середине ноября.
Саша мотался по беспокойному Северному Кавказу. К беде там привыкли и были к ней равнодушны. Кто стал бы нынче искать пропавшую старуху? И Саше очень пригодились его зеленые деньги. К тому же Михалыч был психолог, но к счастью не аналитик. Слух о французской нищей давно облетел Ростов. Конечно, Михалыч платил кому следует. Тем не менее в конце декабря дороги привели Сашу в Ростов, в Газетный переулок. Он скользил по крутому спуску, разгребая ногами мокрые от снега каштановые листья, когда на углу у супермаркета увидел мать. Она сидела на фирменном ящике из-под бутылок. На ней была мужская лыжная куртка. На минуту Саша прирос к земле. Потом присел на ящик и обнял мать. Сына тетя Шура узнала сразу.
— Саша, что же ты так долго?
— Да вот, задержался. Поедем, мама, домой. Скоро Новый год…
В Москве Саша определил мать в больницу. Перед отъездом в Штаты зашел к врачу. Спросил про диагноз. Врач знал историю тети Шуры.
— Сейчас трудно сказать. Возможно, это был инсульт.
— А почему пропала память?
— Амнезия. Случается после инсульта.
— А память вернется?
— Рано предсказывать, — ответил доктор и грустно посмотрел на Сашу. — Вы хотите, чтоб память вернулась? А зачем?
ИВАН
Эту историю рассказала Ева Лившиц, жена моего друга Гриши, альтиста из Цюрихской оперы.
Когда-то, в начале семидесятых, Ева, Гриша и его брат скрипач Боря уехали из Вильнюса и переселились в Израиль. Через несколько лет братья Лившиц, талантливые музыканты, выиграв трудный конкурс, были приняты в оркестр Цюрихской оперы. А еще через пару лет организовали струнное трио. Трио стало знаменитым, они объездили с ним весь мир. Теперь Гриша и Ева с детьми живут в Шверценбахе, пригороде Цюриха, в собственном двухэтажном доме. В доме — большой холл и красивая деревянная лестница, ведущая в спальни на втором этаже. Из окон холла видны изумрудный стриженый газон, за ним вспаханное поле и одинокая старая ферма, а на горизонте в ясную погоду — похожие на облака снежные Альпы.
В Вильнюсе они жили в тесной коммуналке старого дома. Дом стоял в лабиринте средневековых улочек возле костела святой Анны. Казалось бы, от этой старой жизни ничего и не осталось. Но здесь, в большом доме у подножия Альп, они продолжают говорить друг с другом по-русски. Прежняя российская жизнь еще выглядывает со стен и из стеклянных створок старого резного буфета. На стенах висят фотографии их молодых, а в буфете стоят медный самовар, синяя гжель и пузатые расписанные алыми розами чайники.
Но вернемся к истории, которую рассказала Ева. Однажды в ее доме объявился молодой человек. Его звали Шейл Шмуклер. Шейл был профессором университета Пьера и Марии Кюри в Париже и приходился Грише и Боре двоюродным братом. Он был вызывающе элегантен — длинное пальто и бордовый приталенный пиджак с артистическим кашне, повязанным вместо галстука. Вокруг себя он распространял таинственный запах какого-то дорогого одеколона. Весь вечер до ужина Шейл расхаживал по холлу и говорил по карманному телефону. Говорил большей частью по-французски. Но также по-английски и по-немецки. В тот вечер он вылетал из Цюриха в Лондон на конференцию, и ему нужно было уладить кое-какие дела. По-русски он совсем не говорил, и за ужином общался с братьями на иврите.
Поздно вечером после отъезда Шейла Ева рассказала мне историю его отца.
До Второй мировой войны раввин Натанель Шмуклер жил в Польше, в Кракове. Когда в тридцать девятом году Сталин и Гитлер поделили Польшу, Натанель подался в Союз. Ехать в Союз раввину было страшно, но с немцами было еще страшнее. У нас он попал в трудовой лагерь под Иркутском. Ева уже не помнила, что там было. То ли лесопильный завод, то ли бумажная фабрика. Как-то в столовой Натанель, хлебая щи из алюминиевой миски, имел неосторожность пожаловаться соседям по столу. Дескать, кормят здесь хуже, чем в польской тюрьме. Кто-то донес на него. И Натанель отправился из Иркутска дальше на восток, в лагерь под Магаданом. Это был нормальный гулаговский лагерь, рудники в зоне вечной мерзлоты. Больше года в нем никто не протягивал. Глубоко копать могилы в мерзлом грунте было трудно, и каждое лето из-под лишайника вместо травы всходили кости.
Польскому раввину повезло. Он устроился на кухне: резал хлеб, чистил картошку, разливал баланду. Когда уже шла война и немцы подходили к Москве, Натанель познакомился в бараке с Иваном Тимофеевичем. Тот был его соседом, лежал над ним, на верхних нарах. Иван Тимофеевич был низкого роста, кряжист, с круглым крестьянским лицом и здоровым румянцем во всю щеку. Соседи подружились. Может быть, потому что были одногодки, обоим было по двадцать пять. На воле Иван работал экспедитором в одном из московских партийных издательств. Был он поповский сын, родился в деревне на Тамбовщине. Отца и мать расстреляли в коллективизацию. Приютила его дальняя московская родня, когда ему и четырнадцати еще не было. О родителях Иван в анкетах не писал и на работе о них не рассказывал. Как проведали о них бдительные кадровики — не известно.
После ночной поверки, когда барак в полутьме дружно храпел, Иван и Натанель тихо переговаривались. Рассказывал больше Иван, а Натанель слушал о чужой незнакомой жизни. Иван рассказывал про детство в деревне, про то, как пел у отца в церковном хоре, как чуть не утонул в омуте, если бы не вытащила крестная. Когда забрали отца и мать, крестная взяла его к себе. В то время чужие городские люди подводами вывозили из домов добро и хлеб. Крестная с Иваном и двухлетней дочкой жила на хуторе, на отшибе. Как и все, прятала хлеб в подвале. До нее добрались не сразу. Но когда добрались, забрали все подчистую, ни зернышка не оставили. Крестная голосила, бежала за подводой, потом упала и долго молча лежала в сухой дорожной пыли. В ту зиму ребенок умер от голода. А Иван, оставшийся кормильцем, побирался по соседним деревням. Однажды в его отлучку крестная ушла и подожгла дом. Нашли ее на деревенском кладбище. Она висела на березе, росшей над мужниной могилой. Там ее и похоронили. А Иван подался в город.
Натанель слушал, но о себе рассказывал мало. Он был уверен, что парень из далекой русской деревни не поймет его жизни, правды его сурового древнего Бога. А Иван, свесившись с нар, горячо шептал ему на ухо: