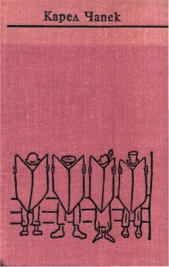Том 5. Очерки, статьи, речи

Том 5. Очерки, статьи, речи читать книгу онлайн
Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.
В пятый том собрания сочинений вошли очерки, статьи, речи, рецензии, отчеты, заявления и письма в редакцию, ответы на анкеты, приложения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А режиссер говорит с актерами на театральном языке. Ему вторит художник, который в последнее время точно так же подошел к театру вплотную; к чести своей — не только не погнушался театральной техникой, но полюбил ее и узнал. И вот произносят они им одним ведомые, таинственные слова о софитах, бережках, щитках и колосниках, и понимают друг друга все с одного слова, а автор сидит и ничего не понимает, как посторонний пассажир на большом корабле, всецело зависящий от власти капитана, когда корабль в плаванье, недоуменно рассматривающий сигнальные флаги и огни, праздно слушающий слова морской команды.
Всегда ли так было? Мы знаем обратное: древние трагики, средневековые драматурги, Шекспир, Мольер — сами ставили свои драмы. Возвышение режиссера произошло по причинам совершенно понятным, но вполне отрицательным: во-первых, автор махнул рукой на театр, перестал ждать от него воплощения своих идей и разучился театральному делу; во-вторых, актер потерял живую душу, стал лживой героической куклой, которая переносима лишь тогда, когда ее держит на золотой цепи сведущий и трезвый человек. «Обновление началось в сердцах режиссеров, — говорит Аничков в своей статье о театре, — и вот выдвинулся режиссер более, чем хотел бы сам. Режиссерское возрождение само считает себя временным, театральным ученичеством, и в будущем, вместе с лучшими из современных режиссеров, надо ждать возрождения игры актера».
«Режиссер теперь самодержец театра, — говорит А. Белый. — Он возникает между актерами, зрителями и драматургом. Он разделяет их друг от друга. Так узурпирует он права автора, вмешиваясь в творчество. Поэтому должен он быть и мудрее драматурга: не только знать сокровенные переживания драматурга, но и окружить эти переживания должной оправой. В этой оправе подносит он автора зрительному залу. Одновременно бороться с актером, исправлять постановкой ошибки автора и учить новой жизни зрительный зал — такова задача современного режиссера; и, конечно, задача эта невыполнимая. Тут режиссеру вменяется в обязанность быть мистагогом толп».
И, наконец, я цитирую третьего автора, который, по моему мнению, окончательно разоблачает вопрос о режиссерском деле. Разоблачает тем более, что это — мнение Мейерхольда, который сам — талантливый режиссер. В своей остроумной схеме Мейерхольд различает два метода режиссерского творчества: первый нежелателен, по его мнению, так как лишает творческой свободы не только актера, но и зрителя, заставляя первого во всем подчиняться режиссеру, а второго воспринимать все через режиссерское творчество; второй — это «театр прямой», то есть такое взаимоотношение, при котором автор, режиссер и актер располагаются по отношению к зрителю на одной прямой: автор передает свой замысел режиссеру, а актер, воспринимая этот замысел через режиссера, раскрывает свободно свою душу перед зрителем. Все это так, но уже слишком ясно, что режиссер занимает здесь такое важное место лишь потому, что автор — невежда в актерском деле, а актер — в авторском. При этом, отвечая на мое возражение, Мейерхольд делает примечание: «А. Блок боится, что актеры такого театра „могут сжечь корабль пьесы“, но на мой взгляд „разноголосица“ и крушение мыслимы тогда только, когда „прямая“ будет превращаться в волнообразную. Опасность устранима, если режиссер верно истолковал автора, верно передал его актеру, а последний верно понял режиссера». Подумаешь, этого мало! Ведь все дело в том, что сплошь и рядом, будь режиссер семи пядей во лбу, он неверно толкует автора, тем более неверно передает его актеру и тем более актеры неверно понимают режиссера!
Итак, вопрос о режиссере — исключительно модный вопрос. Дело, правда, усложняется тем, что потребен театральный человек для постановки старых пьес, но и в этих случаях можно найти средство избежать присутствия все одного и того же лица, которое неизменно, по одному способу, наставляет актеров. Против постоянного режиссера говорит еще одна неоспоримая психологическая истина: привычка поселяет дух разврата во всех областях жизни, и также — в жизни театральной. Вдохновителем чьим бы то ни было, а особенно вдохновителем актера, у которого капризная психология богемы, должен быть свежий, непривычный человек. Стоит к нему привыкнуть, и его обаяние разлетается прахом, и неизбежно становится режиссер каким-то духовным собутыльником труппы, а следовательно, тайным или явным врагом писателя — его идей, требований и мечтаний.
Перевелись таланты. Некому стало потрясать зрительный зал громами гениальной страсти, и погасла сама страсть, по уверениям по крайней мере Мориса Метерлинка. Понадобился ансамбль, и вот актеров стали подбирать по мерке и устанавливать, как кукол, при помощи режиссера. Но вместе с тем началось обновление среди самих актеров. Стоящие вдали от театра имеют право говорить, что театр падает и томится отсутствием талантов; мы же, стоящие близко, не имеем этого права; напротив, пристальное наблюдение открывает нам много надежд в будущем, и даже в ближайшем будущем.
Старый актер имел подобие героя, пока у него был талант. Бездарный герой мгновенно превратился в забулдыгу. Новый актер сбросил со своих плеч традицию дутого героизма, потому что ему стало не до того: перед ним еще в ученические годы открылись пропасти, противоречия и прозрения современной души. Человек истинно современный нам не может обойти эти противоречия; надо сидеть всю жизнь в своем кабинете, или служить в департаменте, или жить в понятиях XVII века, чтобы избегнуть их. И противоречия эти, будь они восприняты самым наивным образом, не могут не быть мучительны, ибо достигают сердца человека, касаются самых интимных сторон жизни, о которых не всякий поведает другому, и тем самым заставляют человека не заботиться о маске, не дорожить своим только добром, но наблюдать во всем окружающем печать своего раскола. И вот новый актер — уже не масочный герой, а человек, страдающий с другими вместе, человек эпохи «крушения индивидуализма». Он, в общем, не талантлив, потому что эпоха раскольническая, мучительная, переходная. Но он уже задумчив; его душа уже истончается и образовывается; его уже терзают сомнения в себе и окружающем, а сомнение — это верное начало знания. Старый лицедей мог быть предерзостным во всем, но для него оставались незыблемыми подмостки и его собственное, раздутое героизмом «я». Новый актер может быть робок и неуверен в себе на подмостках, но у него есть уже тот таинственный пафос дерзости, который способен превратить нашу жизнь в сплошной и никогда не бывалый праздник. Этот пафос — страдание, вырастающее до неба и вновь возвращающееся к нам оттуда горящими лепестками роз; этот пафос — готовность всегда погибнуть лишь с тем, чтобы гибель была прекрасна; готовность к творческой гибели, которая озаряет внутренним светом лицо человека, дает ему сверхъестественные силы для одоления преград, освежает прохладным ветром старую, затхлую душу. За обломками старой разрушающейся психологии всегда сквозит свежая человеческая душа.
Итак, актер приобретает черты нового человека. Ему уже не чуждо страдание и сострадание, то, что снимает лживую маску с лица и открывает доступ к чужой душе. И, несомненно, это роднит его с писателем. Еще сильна старая ненависть лицедея и старое пренебрежение аристократа духа, но уже есть какая-то возможность протянуть друг другу руки и отдаться вместе одной работе.
Я старался описать подготовленное исторически и господствующее теперь отношение между автором, режиссером и актерами и для наглядности, разумеется, многое подчеркнул и преувеличил; на самом деле отношения эти не совсем таковы. Прежде всего драматический автор вовсе не носит на лице своем резко выраженной и пренебрежительной гримасы, просто ему нет больше никакого или почти никакого дела до постановки собственной пьесы: сбыл с рук — и делу конец. Режиссер, со своей стороны, вовсе не настаивает на своей исключительной автономии, он готов пустить автора за кулисы, может быть потому, что не боится конкуренции, а может быть потому, что и ему не много дела до постановки произведения по существу. И, наконец, актеры тоже не питают ни особой ненависти, ни особой любви ни к сцене, ни к автору, ни к режиссеру, ни к пьесе. Они еще ужасно заняты собой, тревогами и страхами за свою несостоятельность. За театральными кулисами господствует скука и томление духа порою больше, чем даже в зрительном зале. Любовь и ненависть выродились и с роковой неизбежностью перешли в следующую стадию своего развития, имя которой — «наплевать». Картина очень неприглядная. Представим же теперь себе, обратно, самое лучшее, что может дать, при современном состоянии русского театра, сценическое представление, ну хоть в Петербурге. Конечно, мы представим себе при этом произведение не слишком утонченное, не спорное в сценическом отношении, с одной стороны, произведение не тенденциозное — с другой, произведение не будничное, но и не целиком фантастическое, — с третьей. Мы возьмем, конечно, высокую драму или высокую комедию, то есть такое произведение, которое, оставаясь творением истинно художественным, должно при посредстве высокого смеха или глубокого страдания очищать душу воспринимающего. Пусть это не будет даже древняя «Гроза» Островского или «Женитьба» Гоголя. Предположим, что написана или переведена с чужого языка такая новая драма, которая бесспорно обладает действием и, следовательно, подлежит сценическому воплощению, в которой есть сильные порывы, занимательные и эффектные положения, возрастающий пафос, большая и умелая развязка. Предположим, что или режиссер, по редкости случая, воспринял авторский замысел с благоговейной тонкостью и чуткостью, или автор вдруг возлюбил театр, декорации, бутафорию, запах кулис, постиг все непонятные термины и с восторгом смышленого младенца сыплет ими направо и налево, причем попадает как раз в точку. Предположим, что актеры забыли интриги и так воспылали жаждой играть пьесу, что героиня охотно согласилась играть служанку в королевском дворце, а третьестепенному актеру без всяких споров и от чистого сердца отдали роль скорбного принца; а художник создает тем временем очаровательные декорации, костюмы и позы. Словом, все идет как по маслу, и на спектакле, что называется, комар носа не подточит: героиня играет служанку с должной скромностью, и скорбный принц совершенно на месте. Автор простирает объятия режиссеру, режиссер — автору, все взаимно благодарят друг друга за выучку и за солидарность, и, при громе аплодисментов, шестьдесят восемь участников торжества выходят кланяться семнадцать с половиной раз. Это ли еще не самая большая, не самая чудодейственная скука? Скука — шестьдесят девятое действующее лицо, которое безмолвно стоит тут же, около размалеванной кулисы, самодовольно разглаживает ее своей мерзостной костлявой ладонью и даже не раскланивается с публикой, потому что слишком хорошо знает, что черед ее придет завтра утром — не позже, когда участники и зрители торжества проспятся. Может быть — раньше утра, глубокой ночью, когда самый прозорливый участник торжества, с бледным лицом, готов «отойти в угол, наклониться, точно собираясь плюнуть, и выстрелить себе в рот, еще пахнущий вином», как одно действующее лицо в «Призраках» Леонида Андреева. Дай господи, чтобы это была только скука, та здоровая скука, когда хочется плюнуть на все, что манило, нравилось, влекло. Но если заведется тоска и запоет вблизи, как шарманщик на дворе в последние осенние дни, тогда не легко сдобровать прозорливому человеку.