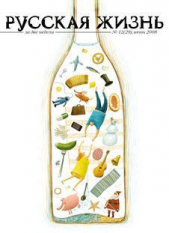Русская жизнь. Попса (май 2008)
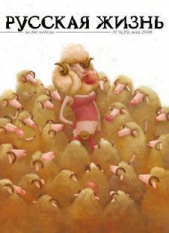
Русская жизнь. Попса (май 2008) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Финиш. В общем зачете победа присуждается Самвелу Сорвиголове Гаспарову, общество «Буревестник», постановщику трех из вышеназванных картин. Его кино сценарист Кузьминых смотрел внимательно и передирал из него ударно. Победителю вручается четырехведерный жбан одеколона «Юнкерский», бархатные наусники и бронзовый канделябр для ближнего боя. От нашего стола - вашему столу.
Господи, даже слезы выступают. Как говорил в таких случаях батька Ангел, «опять смешливые попались».
Спасибо сердечное, господа офицеры. От души спасибо за популяризацию большевистской киногероики. Царь, сделавший для победы большевизма больше всех латышей и евреев, вместе взятых, - и тот не смог бы лучше. Справедливо, замечательно поет в финале Николай Расторгуев: «Наших имен не запомнит Россия, наши следы заметелят снега».
Золотая правда. Но Боже, Боже, как все-таки не хватает этой картине Никиты Джигурды!
Аркадий Ипполитов
Маляр и Сальери
Маленькая трагедия актуального искусства
Правильно все говорят: нет правды на земле. Все сплошной пиар и ничего больше. Выше - тоже все сплошной пиар. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовию к искусству; ребенком будучи, пришел я в Эрмитаж, и там, высоко, над деревянной лестницей, увидел я матиссов «Танец». Напоминал он мне своим движеньем полоски голубые на красном одеяле, что прыгали перед моими глазами. Странно, когда я засыпал, смотрел я и засматривался - слезы невольные и сладкие текли. Все было ново, Рембрандт, Леонардо, божественный Малевич, Рафаэль, Бердслей по юности, и странный Сомов, и Энди Уорхол в первый раз. Затем же, дальше, Барнетт Ньюмен и Билл Виола, Манцони Пьеро, Йозеф Бойс, великий Кошут, Роберт Смитсон… Отверг я сладкие забавы, науки, чуждые искусству, были постылы мне; упрямо и надменно от них отрекся я и предался истории искусств. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды в библиотеке Эрмитажа. Ремесло поставил я подножием искусству; я сделался ремесленник; подробно я изучал талмуды Панофского и Гомбриха: словарь постмодернизма я сделал изголовием своим. Все впечатленья умертвив, я живопись разъял, как труп. Проверил я теорией искусства всех старых мастеров, убив их всех анализом формальным. Тогда уже дерзнул я, в прошлом искушенный, предаться неге современного искусства. Я полюбил трансавангард и «Новых диких», но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье два-три дня, позабыв и сон и пищу, над текстами постструктурализма французского, и, вкусив восторг и слезы вдохновенья, набрасывал эссе, но после жег его, и холодно смотрел, как мысль моя и фразы, мной рожденны, пылая, с легким дымом исчезали. Что говорю? Когда великий Гринуэй явился нам и открыл нам новы тайны (глубокие, пленительные тайны), не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил в структурализме, чему так жарко верил в теории искусства, и не пошел ли бодро вслед за ним, спрягая современность с прошлым? Усильным, напряженным постоянством я наконец достигнул в списке искусствоведов русских степени высокой, заслужив отличный рейтинг. Пресса мне улыбнулась; я в сердцах людей нашел созвучия своим стараньям. Я счастлив был: я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой; также трудами и успехами знакомых: Андреевой, Острова, Тобрелутс, товарищей моих в искусстве славном. Нет! Никогда я зависти не знал, о, никогда! - ниже, когда Екатерина Деготь пленить умела слух диких московитов, ниже, когда услышал в первый раз я лекций Мизиано божественные звуки. Кто скажет, что я был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанною, вживе песок и пыль грызущею бессильно? Никто и никогда! И все же - сам скажу - я ныне так несчастен. Я страдаю; глубоко, мучительно несчастен я в поле современного искусства. О небо! Где правота, когда священный дар, когда бессмертный гений - не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан, - а озаряет голову любимца прессы, того, о ком я должен написать - художник N.
Художник N - статусный петербургский художник.
Сбацав эту фразу, написанную для некоего буклета некой питерской галерейки, я, Сальерий Сальеривич, оторвался от клавиатуры компьютера и задумался. Что, вообще-то, я делаю?
Вот опять какая-то выставка. Там будут картинки: молодые люди сняли себя в костюмах утят из мульти-пульти «Дональд Дак», разыгрывающих сцены из шекспировой «Бури», а молодой человек постарше, да и не молодой уже, а вполне себе дяденька, перенес это с помощью проектора на холст, обведя сценки акрилом, так что получилось пестренько и веселенько, как компотик из свеженьких фруктиков. Все мило, да и хорошо, что молодые люди не наркотиками торгуют, а позируют друг другу на свежем воздухе. Может, даже Шекспира прочли, хотя вряд ли, об Ариэле они узнали от подруги, а та - из телевизионной рекламы порошка.
Я же, б…, напишу о современном переживании елизаветинской эпохи, о перекличке с «Британия-2000» Дерека Джармена, об участи Просперо в третьем тысячелетии, о творческой потенции Art Brut Калибана, о том, что Ариэль в данном перформансе представляет собой персонификацию Дискурса, и что им легче признать, что дискурс не является сложной и дифференцированной практикой, подчиненной правилам и анализируемым трансформациям, нежели лишиться всей этой нежной, утешительной уверенности в силе изменений, таких, как мир, жизнь или, по крайней мере, «смысл», явленной в единственной свежести слова, что происходило только из них самих и пыталось расположиться как можно ближе к бесконечному источнику. Сколько вещей ускользнули от них, и они не желают, чтобы впредь все уходило сквозь пальцы, включая и то, что они говорят, - эти маленькие фрагменты Дискурса-Ариэля (слова, письма или изображения), хрупкость и неопределенность которого должна нести их жизнь дальше навеки. Они не могут допустить (право, их можно понять), чтобы кто-то сказал им:
Дискурс - это не жизнь, у него иное время, нежели у нас, в нем вы не примиритесь со смертью. Возможно, что вы похороните Бога под тяжестью всего того, что говорите, но не думайте, что из сказанного вы сумеете создать человека, которому удалось бы просуществовать дольше, нежели Ему.
Святый Фуко, чем заниматься приходится!
Выставка, опять выставка…
Одна очень остроумная тетенька, хороша собой, одета всегда со вкусом и к лицу, раздобыла детские фотографии Сталина, Гитлера, Усамы бен Ладена и других, пририсовала к ним усы и разместила все на детской площадке из Икеи, назвав свое произведение «Эмбрионы власти». Ее коллега по полю современного искусства, пересняв фотки скандальной светской хроники, заштриховала физиономии Бритни Спирс, Анджелины Джоли и Руперта Эверетта паранджами, представила проект «Война и мир». Целая группа дяденек и тетенек отщелкала шеренги нимфеток и нимфетов, обрядив их в трусы от Труссарди и, дав в руки автоматы Калашникова, выстроила наподобие фидиевых Панафинейских шествий и окрестила «Маршем Согласных». Прелесть что такое, и актуальненько так, и радикальненько.
За окном моего кабинета расстилался вид на Петропавловскую крепость, Стрелку и широкий, серый разлив реки. Биржа с ростральными колоннами была похожа на чернильницу из антикварного магазина, дорогую, - а что в сегодняшнем мире гарант качества, кроме цены? - и очень отреставрированную, был декабрь, петербургский декабрь, самое беспросветное время на земле. Унылая серость пространства, красивого, конечно, но такого северного, безнадежного, монотонного, разворачивалась перед моими глазами с непреложностью кантовского категорического императива, вовлекая в себя все мое существование, и существование моего города и всего окружающего мира. В воздухе висела взвесь из мокрого снега и грязи, на набережной в слякоти гудела пробка из забрызганных мокротой мерседесов и запорожцев, а я, центр моего кабинета, был точкой в центре великого музея, вокруг которой сосредоточилась сокровищница мирового духа, набитая шедеврами всех времен и народов, от топоров каменного века до инсталляций американского народа, выбранных Саатчи для того, чтобы представить актуальную современность моему отечеству. То и другое, и топоры, и Саатчи, и все, что между ними, великое, конечно, было таким же слякотным и сереньким, как и грандиозная панорама имперского великолепия перед моими глазами.