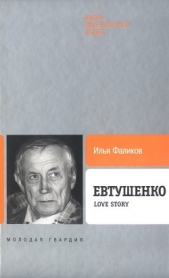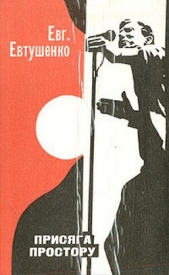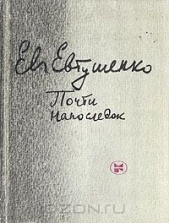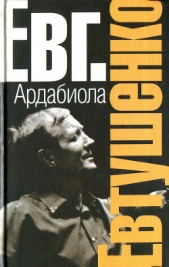Талант есть чудо неслучайное
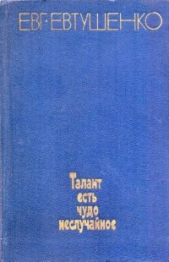
Талант есть чудо неслучайное читать книгу онлайн
Евгений Евтушенко, известный советский поэт, впервые издает сборник своей критической прозы. Последние годы Евг. Евтушенко, сохраняя присущую его таланту поэтическую активность, все чаще выступает в печати и как критик. В критической прозе поэта проявился его общественный темперамент, она порой открыто публицистична и в то же время образна, эмоциональна и поэтична.Евг. Евтушенко прежде всего поэт, поэтому, вполне естественно, большинство его статей посвящено поэзии, но говорит он и о кино, и о прозе, и о музыке (о Шостаковиче, экранизации «Степи» Чехова, актрисе Чуриковой).В книге читатель найдет статьи о поэтах — Пушкине и Некрасове, Маяковском и Неруде, Твардовском и Цветаевой, Антокольском и Смелякове, Кирсанове и Самойлове, С. Чиковани и Винокурове, Вознесенском и Межирове, Геворге Эмине и Кушнере, о прозаиках — Хемингуэе, Маркесе, Распутине, Конецком.Главная мысль, объединяющая эти статьи, — идея долга и ответственности таланта перед своим временем, народом, человечеством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
раз убедился в том, что знал уже давно и что, к сожалению, знают немногие: это
большой русский поэт.
Как сложится его судьба дальше? Все, конечно, зависит сейчас только от него
самого. Но мне очень хотелось бы, чтобы под его ногами оказалась почва чита-
тельского интереса и помогла ему. Он уже стал самим собой, теперь важно остаться
самим собой. А остаться самим собой — означает непрерывно изменяться и из-
меняться, но изменяться не изменяя.
Я хочу полностью процитировать одно стихотворение Соколова о Лермонтове,
которое дышит чистым, воздухом благородства:
Когда стреляют в воздух на дуэли, Отнюдь в обидах небо не винят, Но и не значит
это, что на деле Один из двух признал,
что виноват. И удивив чжого секунданта И напугав беспечно своего, Он. видя губы
бледные Баранта, Пугнул ворон. И больше ничего.
Ведь еще ночью, кутаясь
в постели, Терзая лоб бессонной маетой, Он видел всю бесцельность
этой цели,
Как всю недостижимость
главной, той. Заискиванье? Страх? Ни в коем
разе.
И что ему до этого юнца! Уж он сумел бы вбить ему
в межглазье Крутую каплю царского свинца.
109
Опасно расстрелять все патроны по неглавным целям. Опасно, однако, считать
слишком многое не достойным выстрела, ибо. это не достойное выстрела может
выстрелить в тебя самого. Характер поэта определяется пониманием, когда стрелять и
в кого. Характер проявляется в умении ощутить узлы сюжета истории и в попытке
разрубить или развязать. В первом случае годится меч. Во втором — пристальные руки
часовщика. Поэзия Соколова не разрубает, но она несет высокую гражданскую
функцию терпеливого развязывания. Пушкин, Лермонтов, русская природа, любовь,
Великая Отечественная война, сибирские стройки — все это для поэта узлы сюжета
истории, которые он пытается развязать. Иногда он терялся и шептал зимней ночи: «Я
последний ученик в мастерской твоей холодной». Или желчно усмехался: «Мне
тридцать три. Я жив. Ищу Иуду».
Но все сомнения в себе побеждает живая любовь к живой земле: И земля для него
не предмет языческого восхищения или ультрамодерного разламывания на составные
элементы, а что-то простое, необходимое, наполненное ушедшими куда-то с нее, но не
из нее людьми.
Жить бы мне, на ромашках гадая, Зная дело, сжимая перо, До свободной минуты,
когда я В землю тоже войду, как в метро.
Да. Соколов не ищет лихорадочно своего золотого слова — он его ожидает. Но
ожидание — тоже великая работа, ибо великая работа — прежде всего самодис-
циплина.
Он знает, что поэзия — дело нешуточное, потому что не до шуток ни в пятьдесят
шестом году, ни в шестьдесят пятом, ни вообще в нашем веке...
Подражатели относятся к поэзии шутовски и поэтому в конце концов теряют
читателя, даже если иногда временно его завоевывают.
А завоевать читателя по-настоящему может только выстраданное, пронесенное
сквозь все узлы истории золотое слово, то есть, проще говоря, нешуточное.
1965
*
мысль
КАК ЭМОЦИЯ
в
первые в Армении я побывал на похоронах Аветика Исаакяна. Это было похоже на
траурный праздник победы поэзии над смертью. Из разных городов и сел Армении шли
десятки тысяч людей, чтобы отдать дань любви великому Варпету. Похожие на
сгустившийся дым газовые накидки покачивались на головах женщин, и толпа черной
нескончаемой рекой лилась по розовому ущелью туфовых зданий.
В отличие от некоторых других похорон, случавшихся на моем веку, я не замечал
никакой суеты, никакой толкотни, никакого футбольно-эстрадного любопытства. Люди
отдавались своей печали величаво, сдержанно, предоставляя сами себя ее медленному
течению, и в этой общей печали находили как утешение единство, а может быть,
надежду на будущее единство, еще более всеобъемлющее. Благословен поэт, который
дает людям, разобщенным повседневностью, чувство единства — пусть даже в тот час,
когда тело поэта опускается в землю, становясь ею навсегда.
Наверно, в этот день и предстала предо мной душа армянского народа в его
исторической трагедийной разбросанности по всему земному шару и в то же время с
неутраченной, а может быть, еще более обострившейся жаждой единства. В чувство
родной земли всегда входит понятие духа народа, а дух народа непредставим без
поэзии, и поэтому комья армянской земли, бросаемой на гроб Исаакяна, были не
соприкосновением живой земли с мертвым телом, а соприкосновением живой земли с
живой землей.
Падала, стуча о крышку гроба, земля в землю, а на наши головы падали тяжелые
теплые капли дождя, как бы утверждая связь земного с небесным, ибо мировой дух
рассредоточен и в нас, еще ходящих по земле, и в тех, кто уже лежит в земле, и где-то
над нами, в небе.
Понимал ли я это тогда — не знаю, ведь я был еще слишком молод, но, оглядываясь
на похороны Исаакяна и как бы заново идя с непокрытой головой по улицам Еревана, я
понимаю это сейчас пусть запоздалым, но все-таки пришедшим пониманием.
Само понятие «талант» я совсем не свожу только к сфере искусства. Однажды мы
шли с писателем Ва-силем Быковым по вечерним ереванским улицам и услышали
музыку и пение, доносившиеся из арки какого-то старинного дома. Полюбопытствовав,
мы остановились у арки, и тут же незнакомые нам люди, даже не интересующиеся тем,
кто мы есть, пригласили пас во двор, на свадьбу, устроенную прямо на открытом воз-
духе, где нас приняли как самых дорогих гостей. Это тоже талант — талант широты,
гостеприимства, свойственного армянскому народу.
Когда мы были в туманяновской деревне, я что-то плохо себя почувствовал то ли от
серпантинной дороги, то ли от предыдущей свадьбы, то ли от перепада давления, то ли
от всего вместе взятого. Между тем мы шли по улицам, уставленным столами, где
каждая семья предлагала гостям все, чем была богата. Одна армянская старая
крестьянка заметила, что я бледен, спросила через переводчика, что со мной, и тут же,
сделав успокоительный знак рукой, подала мне тарелку зелени, называвшейся авелук.
Действительно, когда я попробовал авелук, у меня все как рукой сняло — доброй ар-
мянской рукой. Когда я уезжал из Еревана, армянские друзья спросили: «Что тебе
подарить?» Я ответил: «Авелук». И действительно, был вознагражден полученной
мною через день связкой сушеного авелука, улетевшего со мной в Москву.
Это тоже талант — вовремя почувствовать, что нужно человеку, в тот момент, когда
ему плохо.
111
Ни один народ нельзя понять, мысля лишь обобщенными категориями. Иногда, к
счастью, иногда, к сожалению, очень многое в нашем отношении к любому народу
зависит от первого знакомства с конкретным человеком. Конечно, и среди армян, как и
среди русских и среди людей любой национальности, есть плохие люди, но мне
повезло, что первым армянином, с которым я близко познакомился и подружился, был
выдающийся поэт и человек — Паруйр Севак.
Паруйр Севак и внешне, и внутренне не походил на бытующее поверхностное
представление об армянах: лицо у него было с крупным, чуть приплюснутым носом, с
эфиопскими, выпяченными губами, движения резкие, и слова отрывистые,
обнаженные. По художественной природе своей Паруйр был, пожалуй, близок какими-
то чертами к Маяковскому, но по природе чисто человеческой — к Некрасову, ибо для
Маяковского жизнь села была на втором плане, за индустриальными трубами и ареной
политической борьбы. Второй поэт, с которым я познакомился тогда же в Москве,—
Ованес Шираз — был полной противоположностью Паруйру. Основной темой всех его
разговоров был он сам. Схватив меня за руку где-нибудь в продымленном
литинститутском коридоре, он лихорадочно говорил мне, путая падежи и склонения: