Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015
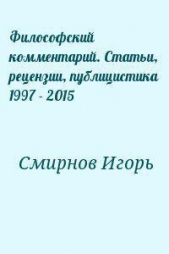
Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не буду собственными силами решать щекотливый вопрос о том, почему Гумбрехт адресовал статью о Яуссе русской аудитории, а не, допустим, немецкой, где она скорее всего нашла бы более чем живой отклик, особенно в академической среде. Даю слово Гумбрехту. Он полагал уместным поделиться своим посттоталитарным опытом, полученным в Германии, и счастливым переживанием обретенных им американских свобод с людьми из той страны, которая после многолетней “советской стагнации” заявила о “безусловном отказе от прежней жизни” (с. 24). Как тут опять не сказать о гумбрехтовской анахроничности?! Ведь демократия у нас стала, слава Господу, управляемой, да и Америка развила свой образцовый либерализм в Гуантанамо. И все же, даже несмотря на несвоевременность обращения американского профессора к русской публике с наставительным посланием, Гумбрехт попал в точку. Потому что его текст будет вопринят моими соотечественниками (знаю я их всеотзывчивость) с благодарностью (в известном смысле интуиция ученого и тут сработала). Они будут признательны за то, что им доставлена блаженная возможность вспомнить о “Семнадцати мгновениях весны”. Пусть русские друзья Гумбрехта расскажут ему об этом киносериале.
О людях 1930-х годов
Опубликовано в журнале: Звезда 2006, 11
Ранней осенью 1979 г. я уволился из Пушкинского дома по собственному желанию. Даже по тем негласным меркам, которые были приняты в тогдашней советской системе, я не был обязан покидать работу после того, как женился на немке и решил переселиться к ней в Германию. Но политическое положение Лихачева было в ту пору отчаянным: на него совершались покушения, он был под неусыпной слежкой, его зятя упекли в тюрьму. Чтобы не доставлять ДеЭсу дополнительных хлопот, я аннулировал свое членство в его Секторе древнерусской литературы перед тем, как отправиться в ОВИР с заявлением о выезде из Советского Союза.
Действовать по закону в этой стране было абсурдно: примись я бороться за право на труд, я нанес бы ущерб тому, кого считал своим незаменимым учителем. Впрочем, и те, кто отстаивает свои права в демократических обществах, бывают впутаны в неразрешимые противоречия. Одна моя немецкая знакомая уже давно начала выступать в защиту переводчиков, занятых изящной словесностью, и наконец добилась по суду повышения их тарифных ставок, бывших и впрямь полунищенскими. Результат не заставил себя ждать. Небольшие издательства, небогатый и потому инициативный авангард медиального производства, были вынуждены свернуть переводческие проекты. Равенство всех перед лицом бесстрастного суда — либеральная химера уже по той причине, что суть закона как раз в обратном — в создании неравенств: в запрещении одних действий и в предписывании других. Закон творит строгие разделения — как может он быть при этом универсально справедливым? С логической точки зрения закон как таковой парадоксален: он утверждает универсальность неуниверсального.
Когда Карл Шмитт развил во второй половине 1920-х гг. идею “ситуационного права”, он попытался преодолеть эту дурную парадоксальность за счет приспособления законодательства к социополитической конкретности. Шмитт был логичен и убедителен, как никакой до него юрист-философ. То, что он обосновывал в своих публикациях, явилось в итоге в виде гитлеровского порядка с его “национальной юстицией”. Не стоит думать, что тоталитаризм зиждется на сугубом произволе. Любой тоталитарный режим — неважно, гитлеровский или сталинский, — легитимирует себя, исходя из права государства объявлять чрезвычайное положение, исследованное Шмиттом (со ссылкой, кстати, на опыт большевистской России). Телефонное право, тайные указания, рассылаемые чиновникам сверху в обход конституции, осуждения тунеядцев, не совершивших никаких преступлений, и прочие “беззакония” хрущевского и брежневского времени на самом деле вполне законны, если взглянуть на дело под тем углом зрения, который предлагает теория чрезвычайного положения, превозносящая ничем не ограниченный государственный суверенитет. Закон может становиться логически безупречным, подчеркивая свою неуниверсальность, но тогда он выражает собой интересы одних законодателей, а не тех, кто подпадает под его действие.
Куда ни кинь, всюду клин. Выбирать приходится не между разными законами — логичны они или нет, они одинаково чреваты казусами, а между ними в целом и жизнью как поиском истины, которая никакой юрисдикцией не обеспечивается и вообще никому не дается в готовом виде, будучи истиной нашей историчности, самой жизненной пробы. Надо полагать, что ДеЭс не верил в спасение-в-законе. Во всяком случае он стоически сносил обрушившиеся на него гонения, не обращаясь за поддержкой к общественному мнению. Он был занят в то время работой над книгой о садах и парковой архитектуре. ДеЭс был человеком чрезвычайной внутренней дисциплины, диктовавшейся ему той ответственностью, которую он нес за свое научное творчество. В этом смысле ему был вполне чужд кантовский образ трансцендентального субъекта, муштрующего себя, чтобы отождествиться с Другим, уравнять свою и чужую позиции, и таким путем порождающего закон, тем более обязательный для всех, что за юридической формой здесь просвечивает нравственный императив. Для ДеЭса мораль обусловливалась совсем иначе — за пределом рациональности: его ответственность за созидаемое была сходна с той, что испытывают родители по отношению к детям, т. е. органической, дорассудочной, являющей собой modus vivendi, а не modus operandi, как у Канта.
Итак, я написал ДеЭсу прощальное письмо, сгинул из Сектора древнерусской литературы — и попал в полуторагодовой отказ. Снова я встретил ДеЭса в начале 1980-го в Русском музее, где проходила — не помню какая — выставка. Столкнувшись на ней, мы затем вместе спустились на первый этаж — он, чтобы взглянуть на Малевича, обратившегося на склоне лет к фигуративности, я — чтобы задержаться у полотен соцреалистов. Отреагировав на предмет моего любопытствования, ДеЭс иронично и в то же время обескураженно заметил, что вот-де японцы скупают теперь сталинское искусство. Самохвалов и иже с ним были малоприемлемы для жертвы концлагерей и принудительного труда, но все же ДеЭс внимательно следил за тем, как менялся подход к той эпохе, на которую пришлось его становление. Много позднее, увидев, что я курю трубку, и вспомнив, наверно, наше совместное посещение Русского музея, ДеЭс лукаво спросил: “Как у Сталина?” Еще позднее я опубликовал предисловие к немецкому переводу лихачевских мемуаров, где сравнил их
автора с теми видными личностями 1930-х гг., которые выстраивали свои идеи, отправляясь от переживания ненадежности человеческого существования. ДеЭсу понравилось это издание: он написал мне, что берет книгу в постель для просмотра перед сном, и добавил: “Как куклу”.
ДеЭс высоко ценил культуру раннего авангарда, но принадлежал к поколению, заставшему ее конец и вынужденному намечать выход из того кризиса, в котором оказалось представление об автономных рядах творчества. Искусство как таковое, обнаружившее свою недостаточность, требовало какого-то усиления, добавки, и одни отыскивали ее в госзаказе, другие — в учете национально-расовых интересов, третьи не находили ее вовсе и редуцировали обступавшую их реальность к абсурду. ДеЭс считал, что современность, абсолютизированная авангардом первой волны, не может обойтись без опоры на средневековую традицию, без распознания своего дальнего генезиса. Явное преувеличение утверждать, что термин “вредитель” в “Морфологии сказки” был введен В. Я. Проппом с оглядкой на советский Уголовный кодекс или что забрасывающие друг друга калом участники карнавала описаны М. М. Бахтиным ради оправдания сталинских показательных процессов против старой партийной гвардии. Тем не менее даже те люди тридцатых, между которыми зияли идеологические пропасти, были скреплены незримыми узами некоей парадигмы, пусть составленной из альтернатив, но все же имеющей инвариантом неудовлетворенность ее творцов предшествовавшей им авангардистской эпохой. Можно подступиться к проблеме с другой стороны и сказать, что историческая работа по отрицанию прошлого неизбежно вызывает среди тех, кто вершит ее совместно, негативное же взаимодействие, разительное расхождение современников, раскол поколения.























