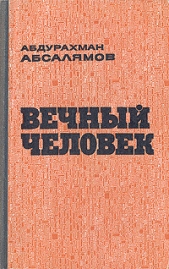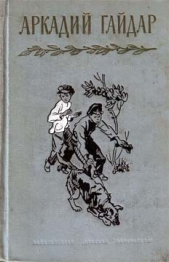Вечный человек

Вечный человек читать книгу онлайн
В чем заключается нравственная красота? Что делает духовный мир человека богатым и содержательным? В чем заключается моральное уродство? Что такое творчество? Можно ли называть творцами только поэтов и живописцев, или творчество доступно любому из нас: это и человеческие общения, и самовоспитание, и деятельная доброта. Что такое великая любовь? Возможна ли в наши дни такая любовь, какая была у Ромео и Джульетты?
Эти вопросы содержатся в обширной почте, которую получает Евг. Богат. Его новая книга «Вечный человек» — острый нравственный диалог с молодыми читателями. Писатель полемизирует с теми, кто не понимает величия и красоты человека, рассказывает истории из жизни, размышляет о непреходящих моральных ценностях. Наряду с полемикой и раздумьями в книге большое место занимают остросюжетные новеллы об удивительных людях нашего времени и минувших эпох, чьи судьбы учат нас мужеству и вере в жизнь. В «Вечном человеке» «вечные» нравственные проблемы — добро, любовь, бескорыстие получают современное звучание, обогащаются духом нашей эпохи.
Вечный человек, говорит читателю автор книги, — это ты сам. Это ты, если в тебе живет боец, если в душе твоей горит неугасимый огонь, зажженный великими мыслителями и борцами за лучшее будущее человечества, за коммунизм.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но однажды, когда я в первые же после открытия Эрмитажа минуты направился к «Пожилому мужчине» (меня опять мучила тайна этого портрета), я издали с наивным удивлением не обнаружил перед ним моего стула, а, подойдя, увидел — уже с искренним изумлением — что и сама картина отсутствует, на ее месте висела унылая, исписанная лиловыми чернилами бумага. Я уставился в нее идиотически тупо, почему-то начисто забыв в ту минуту, что картина, не мемориальная доска, ее могут и унести к реставраторам и послать куда-то на выставку. Очнулся я, когда услышал рядом:
— Ее вернут дней через десять. Может, даже через неделю. Понимаете, научная работа…
Я повернул голову: она, женщина, обыкновенно покоившаяся на жестком, далеко не музейном стуле в углу, с истертой подошвами подставкой для ног, страж полотен.
Был мартовский день с солнцем, снегом, облаками. Весеннее утро над Невой, распахнутые дали ударили в царственные окна Эрмитажа, затмевая самосветящиеся полотна. Женщина подошла поспешно к окну, затемнила его желтым, тяжким от солнца шелком, потом вернулась ко мне, поправила на стене передо мной косо висевшую унылую бумагу: документ о местонахождении «Пожилого мужчины».
— Может быть, — начала несмело, — посидите сегодня у «Женщины с серьгами», ее тоже дня через три заберут. — И родственно улыбнулась. — Там и стул ваш…
Я увидел, что ей за шестьдесят, пожалуй, далеко уже за шестьдесят, и мало, должно быть, досталось ей в жизни сидеть, ничего не делая, или ходить по земле в удовольствие, без тяжестей; особая суровая согбенность, которая не ощущалась, когда она сидела понуро в углу, сейчас стала явственной и не сочеталась с уютом лица: по-домашнему доброго, в бабушкиных морщинах.
— Вы переставляли стул? — задал я ненужный вопрос.
Она тихо рассмеялась:
— Я уж заприметила: если три дня сидите перед «Аманом», на четвертый — к «Пожилому мужчине». — И добавила серьезно: — День ведь долгий. Сидишь и видишь, что надо и чего не надо… Вот и вас наблюдала, наблюдала, аж надоело! Извините старуху… Даже, — насмешливо понизила голос, — домой вернешься: будто вы ходите передо мной.
— Послезавтра, наверное, уеду, — ответил я, чтобы хоть что-то ответить.
— Не дождетесь? — опечалилась, посмотрев на пустую стену. — А вы отложите, может, они и через четыре дня вернут, бывает. Вот и с «Давидом и Ионафаном» было, его тогда называли иначе «Давид и Авессалом»; берем, говорили, на три месяца, а уже через две недели…
— И часто меняют названия картин?
Мне не хотелось, чтобы она уходила.
— Меняют! — подтвердила она с охотой. — Вот та, у которой сидели вы раньше, теперь не «Падение Амана», как когда-то, а «Давид и Урий». Библейских-то имен — не сосчитаешь! Вот и играют… — в голосе ее не было ни осуждения, ни иронии, будто говорила она о детях. — Но мне, — сообщила с доброй доверчивостью, — нет дела до новых имен. Человек-то: он тот же, хоть Урием его, хоть Аманом назови… Нам с ним от этого ни холодно, ни жарко. Вот и о Данае, кто заявляет: Вирсавия… Это, — пояснила, — жена Урия, которую полюбил Давид. Кто… — махнула рукой, рассмеялась. — А она, сама-то, небось от радости и не помнит, как ее зовут. И вашего пожилого теперь, может, нарекут по-библейски. Нет им, должно быть, покоя, что без имени остался. Кому уже в третий раз меняют, а ему и первого не дали. Но я-то называть его буду по-старому…
— Пожилым мужчиной?
— Нет!.. — она растерялась, даже покраснела, будто сорвалось с ее губ что-то нескромное, о чем нельзя и полусловом поведать человеку малознакомому.
— Нет? — удивился я невольно ее растерянности. Она, улыбаясь, подняла ко мне лицо. И я забыл о бессмертных самосветящихся полотнах, забыл о Рембрандте и об Эрмитаже, я видел ее лицо, чувствуя, что нет для меня в эту минуту ничего в мире важнее его. Жила в этом лице человеческая судьба, обыкновенная и странная: с детьми, трудом, войной, надеждами, похоронами, нерастраченным — сердцем, одиночеством, усталостью и тоской по работе… Я увидел ее жизнь, понял и то, чем она была, и то, чем она не стала. И вот в ту минуту, когда я, казалось бы, совершенно забыл о Рембрандте, он и дал мне великий урок. Я не побоялся бы, пожалуй, выразить его суть несколько банально, написав: нет в мире ничего важнее человека, который перед тобой. Но от этой будто бы безошибочной формулы меня отталкивает ее неточность. Дело тут не в важности, а в чем-то более существенном. Понимание человека, пульсирующее уже в самом первоначальном восприятии его, должно быть воскрешением самого лучшего, что было и что могло быть в его судьбе. Понимание, едва родившись, уже должно быть творчеством. Сознания важности мало, ибо оно возможно и при пассивном отношении…
Она опустила голову, будто бы поклонившись мне, и медленно, медленно отошла, ступая осторожно по дорогому паркету. Я ощутил опять ее суровую согбенность. Она уходила к себе, на жесткий немузейный стул, откуда хорошо виден зал, и раньше, чем она дошла и села, и я увидел опять ее лицо, я понял, что мужчины и женщины, старики и старухи на портретах Рембрандта заняли в ее судьбе места тех, кто ушел из ее жизни и, должно быть, получили их имена. И она оттуда, из угла, точно подтверждая эту мысль, улыбнулась в последний раз, потом посуровела, отвела лицо, чтобы не мешать мне напоминанием о том, что мы вот и познакомились…
А я опять до сумерек думал о том, что Рембрандт показал физически осязаемо реальность духовной жизни и, видимо, первый в мировом искусстве эту реальность открыл в обыкновенном рядовом человеке: ремесленнике, пахаре, рыбаке. Раньше она, эта удивительная реальность, казалась достоянием великих — святых, мучеников, героев. Рембрандт сумел ее увидеть в последнем амстердамском нищем.
Мне особенно хорошо думалось в тот день, может быть, потому, что утром я увидел первый раз ее лицо. Ночью, уже засыпая, я увидел его опять — оно было погружено во что-то сумрачно-золотое и окутано тенью, точно написал его Рембрандт. Передо мной был портрет — ее портрет, — созданный Рембрандтом.
А утром, войдя в зал, самой первой хотел я увидеть ее. Она по обыкновению понуро сидела, и в ее будничной домашности не было ничего таинственного, самосветящегося, рембрандтовского…
В тот день я долго стоял перед темным исполинским — полотном, повествующим об окончании странствий непутевого сына несчастного библейского старика. Отклонив голову, чтобы размять онемевшее тело, я увидел, как из коричневого с ударом в черное, казалось бы, непроницаемого сумрака выплыло похожее на туманное отражение в воде, незамеченное мною ранее лицо. С той минуты, откладывая отъезд со дня на день, я начал высматривать там, во тьме полотна (небытия?), новые лица очевидцев возвращения и раскаяния сына. И вот в зависимости от освещения — туман или солнце за окном, утро или вечер, — от места, с которого я выуживал их, меня и ожидали открытия. Я видел новых женщин, мужчин, стариков, порой убеждал себя, что передо мной лишь отсветы, оживленные воображением, сам не верил себе, ибо минуту назад этот кусок полотна был наглухо темен — ночное, беззвездное, тяжкое небо, — но в ускользающем отсвете настолько явственно жило человеческое лицо, что сомнения исчезали. Я видел воочию одоление человеком тьмы небытия, видел очеловечивание космоса.
Однажды утром я застал перед этой картиной Елизавету Евграфовну. (Тот день запомнился мне навсегда, потому что вечером был я у нее дома — в маленькой комнате с узким унылым окном…) В зале тогда было пустынно и тихо, меня она не видела; вероятно, отрешенность минуты и побудила ее утолить любопытство. Поначалу она стояла неподвижно, как изваяние, потом отклонилась, покачала головой, переступила быстро с ноги на ногу. Она, подобно мне, топталась перед картиной; очевидно, хотела понять, что я ищу в ней, вижу. Я подумал невольно о том, что это единственное полотно, перед которым она никогда не ставила «моего» стула, хотя меня и тянуло к нему в последние дни чаще, чем к остальным.
Я вышел из укрытия, лишь когда она вернулась к себе в угол с лицом сосредоточенным и думающим. Мне не терпелось, конечно, узнать, что она поймала в ускользающих отсветах полотна, но показалось, что заговаривать с ней сейчас об этом нескромно, — ведь она полагала, что ее никто не видит, и потом, быть может, то, что она открыла, имеет отношение не к возвращению библейского сына, а к собственной ее судьбе, как имеют к ней какое-то таинственное — я убеждался в этом больше и больше — отношение мужчины и женщины на рембрандтовских портретах.