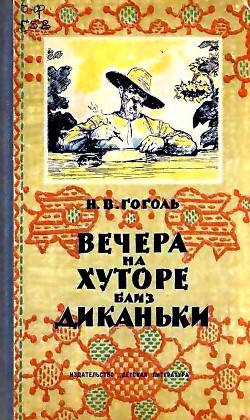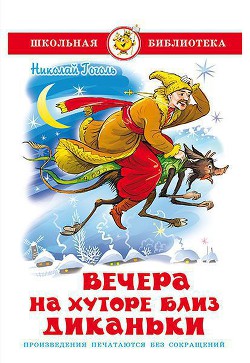Русская тема. О нашей жизни и литературе

Русская тема. О нашей жизни и литературе читать книгу онлайн
Вячеслав Пьецух — писатель неторопливый: он никогда не отправится в погоню за сверхпопулярностью, предпочитает жанр повести, рассказа, эссе. У нашего современника свои вопросы к русским классикам. Можно подивиться новому прочтению Гоголя. Тут много парадоксального. А все парадоксы автор отыскал в привычках, привязанностях, эпатажных поступках великого пересмешника. Весь цикл «Биографии» может шокировать любителя хрестоматийного чтения.
«Московский комсомолец», 8 апреля 2002г.Книга известного писателя Вячеслава Пьецуха впервые собрала воедино создававшиеся им на протяжении многих лет очень личностные и зачастую эпатажные эссе о писателях-классиках: от Пушкина до Шукшина. Литературная биография — как ключик к постижению писательских творений и судеб — позволяет автору обозначить неожиданные параллели между художественными произведениями и бесконечно богатой русской реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, можно, конечно, писать за границей, но лучше писать в России.
Одна, но пламенная страсть
Может быть, этого и не было никогда, однако не исключено, что именно так и было…
Москва, Брюсовский переулок, громадный дом из бывших доходных, восьмой этаж, коммунальная квартира, провонявшая жареным луком, продолговатая комната красавицы Галины Бениславской, у которой живет Есенин. Хозяйка в отъезде и в связи с этим обстоятельством в Брюсовском четвертые сутки идет попойка. На столе остатки винегрета вперемешку с папиросными окурками, на подоконнике вид застят пивные и водочные бутылки, кто-то храпит в углу, а сам Сергей Александрович сидит на полу в цилиндре и терзает свою тальянку, то есть итальянскую гармошку, которую зовут тальянкой на том же основании, на каком Триумфальные ворота называли Трухмальными, а пиджак — спинжак; Есенин поет и плачет:
— Серега! – спрашивают поэта. – А чего это у тебя под глазом такой синяк?
— Маляры побили.
— А ты чего?
— А я ничего. Маляры, брат, драться первые мастера. Вот в Харькове я один шестерых официантов бил, а московские маляры — это особь статья…
Тальянка берет широкий аккорд, и песня льется дальше, горькая, как слеза:
Где-то в дальнем конце коридора лает собака, то и дело стучат в стену измученные соседи, наконец, Сергей Александрович бросает гармошку об пол и со злобой в голосе говорит:
— Всё! Ухожу, к чертовой матери, в монастырь! Вот только протрезвею, помоюсь, — и немедленно в монастырь!
А вот это известно точно: всякий раз, на четвертые сутки пьянства, Есенин собирается в монастырь.
Каждый знает, что русский писатель пьёт. Гениальные художники слова и разного рода литературные подмастерья, как правило, в рот не берут хмельного, а так называемый большой писатель обычно пьет. Травит он себя алкоголем по многим причинам: потому что он только большой писатель, а не гениальный, потому что у него жена идиотка и ей в принципе всё равно, за кем быть замужем, хоть за сантехником, главное, чтобы человек был хороший, потому что порядочных читателей раз-два и обчелся, в газетах о его сочинениях пишут глупости, в другой раз не на что похмелиться, никто не понимает, что такое литература, потому что шахматисты ездят на «мерседесах», а Пушкин оставил после себя неоплатные долги, наконец, он пьет потому, что пьет, потому что «Веселие Руси питие еси».
Существует и центральная причина, склоняющая его к пьянству как форме сравнительно безгрешного суицида: он пришел, высказался и вот-вот растворится в небытии, а человечество ведет себя так, точно ничего особенного не случилось. Иначе говоря, большой писатель ощущает в себе способность силою только художественного слова образумить дурацкий мир, но его никто не желает слушать, но ему никто не стремится внять.
Если у гончара не покупают горшки, то это, конечно, тоже весьма обидно, однако большой писатель — это такая привереда, что если остается без отзвука его художественное слово, то им мало-помалу овладевает «одна, но пламенная страсть»; именно он сознательно и бессознательно принимается изничтожать себя как землянина и творца. Обычай этот универсальный, но почему-то особенно прочно прижившийся на Руси.
Давно замечено, что в русском человеке живет загадочная склонность к самоуничтожению, и даже не склонность, а в некотором роде страсть. Будь ты хоть отставным вахтером, никогда не писавшим ничего, кроме жалоб и заявлений, всё равно тебя изнуряет целый комплекс неразрешимых противоречий, по милости которых иной раз и святой сопьется, например, противоречие, между европейским образом мышления и азиатским способом бытия.
Понятное дело, что наша страсть к самоуничтожению нагляднее всего просматривается в русском художнике, существе неврастенического склада, остро чувствующем, всячески обиженном и при этом животворящим, да еще на особый лад. Особенность этого лада состоит в том, что, в частности, русского большого писателя питает не действительность, но собственная душа, которая бытует в нем не как метафизическая категория, а как нечто, напротив, физически ощутимое, как отравление и нарыв.
Душа писателя может быть отравлена какой-нибудь мировой идеей, фантазией этического или эстетического порядка, неразделенной любовью, даже и бытовыми неурядицами, но чаще всего тяжелую интоксикацию вызывает одно и то же: писатель ищет мира и не находит, то есть он решительно не способен примирить в себе животворящее, божественное начало и плотские слабости от врага. Равно как он не может примирить в своем разуме горний дух человеческий и удручающее общественное устройство, войны и теологию, милосердие и преступность, вообще благие помыслы и отвратительные дела. Тут поневоле запьешь, только писатель иной раз думает, что он пьет потому что пьет, а на поверку он пьет потому, что ежели выставить Лакоона на Миусской площади, то получится ерунда.
То-то и оно, что вселенские несуразности — это само собой, но куда острей наш писатель переживает несовместимость со своей родиной, со всеми свычаями и обычаями утомительной русской жизни. С одной стороны, он чувствует, что, например, его французские товарищи по перу пишут немного жиже, то есть и тематика мелковата, и синтаксис не того, но, с другой стороны, может быть, потому так и богата наша литература, что беден быт, жестокосердны люди, дух возвышен, отношения изощренные, куда ни глянь, кругом заборы да сараи, гражданственность и законность суть понятия академические, национальная умственность организована так серьезно, что даже страшно, женщины прекрасны, дети развращены. Разумеется, все эти характеристики входят друг с другом в такое злое противоречие, что без надрыва не обойтись.
Посему логично будет предположить, что Ломоносов пил мертвую не оттого, что его затирали немцы, и Пушкин искал смерти от пули-дуры не оттого, что была замарана его честь, и Есенин извел себя не оттого, что большевики ликвидировали сатиново-березовую Россию, а оттого, что русский художник не может примирить в себе апостола Христова и гражданина своей страны. Гибельность этого антагонизма легко проверить, если на трезвую голову побродить по московским стогнам: святые угодники! какие то и дело встречаются одухотворённые лица, а какие свинные рыла выглядывают из-за тонированных окон, а сколько старушек клянчат подаяния, робко протянув свои птичьи ручки, а что за утончённые разговоры иногда воровски можно бывает перехватить!.. И оно конечно: если вы человек чувствующий, то сразу захочется на себя руки наложить, по крайней мере, крепко залить глаза.
У Есенина был еще индивидуальный, особенный повод пить: кроме всего прочего, он пьянствовал потому, что масштаб и качество его популярности не соответствовали масштабу и качеству его дара, и как он ни тщился, пропорции не достиг. Да и как ты ее достигнешь, если при огромном лирическом таланте, при редком умении схватить за живое русское, всё время сбиваться на частушку да на куплет? То, понимаешь, —
То, понимаешь, —
Немудрено, что вокруг его имени навертелась масса обидных недоразумений. Например, молва прикомандировала Есенина к крестьянским поэтам, а он грезил об универсальной славе Пушкина. По нему сходили с ума белошвейки и парикмахеры, а Сергею Александровичу хотелось поклонения читательской аристократии, которая всегда относилась к нему прохладно. Он ожидал, что Америка его встретит как Есенина, а она его встретила как очередного мужа Айседоры Дункан, даром что он считал себя первым поэтом своей эпохи.