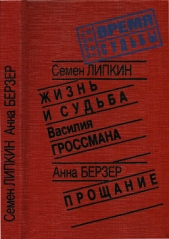Цех пера. Эссеистика
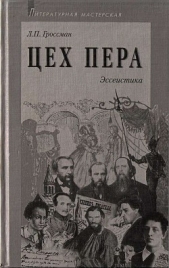
Цех пера. Эссеистика читать книгу онлайн
Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что такое «Бежин луг»? Чудесные пейзажи и пять зарисовок детских головок; там, где может начаться действие, автор смолкает; из последней строки рассказа мы узнаем, что Павел в том же году убился, упав с лошади, но узнаем об этом, как из телеграфного сообщения с точным подсчетом слов. От изображения катастрофы автор воздерживается; все его искусство вылилось целиком в предшествующих пейзажах и портретах.
V
Особенно показательна в этом отношении история Чертопханова. В 1849 году Тургенев дает в своем рассказе обычную серию портретов. Мастерство его достигает здесь редкой высоты. Некоторые портреты образцовы и во всей богатой галерее позднейших тургеневских образов остаются в ряду его первоклассных достижений. Вглядимся в портрет Чертопханова.
«Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая, горбоносая, рыжая лошадь шаталась под ним, как угорелая; две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движение, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно от избытка достоинства — ни дать ни взять как индейский петух»…
Также мастерски выписан и портрет Маши:
«Дверь тихонько растворилась, и я увидел женщину лет двадцати, высокую и стройную с цыганским смуглым лицом, изжелта-карими глазами и черною, как смоль, косою; большие белые зубы так и сверкали из-под полных красных губ. На ней было белое платье; голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие, породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.
…Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос, с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щеки — все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков — признак крови и силы… Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало… Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение.
…Маша впорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песнь… Машу всю поводило, как бересту на огне: тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускаясь в изнеможении, словно неохотно щипала струны… то снова заливалась она, как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь…»[44].
Выбор деталей, их четкость, пластичность и красочность обнаруживают высокое мастерство портретиста. При этой остроте в манере зарисовки отдельных штрихов, ни на мгновенье не утрачивается впечатление от цельного живого облика. Портрет, вбирающий в себя все колоритные детали костюма и обстановки, запечатлевший рядом с Чертопхановым двух криволапых борзых и горбоносую лошадь, отметивший кинжал и рог этого страстного спортсмена, с редкой изобразительной силой выявляет весь физической облик этого уездного Дон-Кихота. А в портрете Маши мастерски подмеченная подробность — двойное янтарное ожерелье на смуглом горле — дает такое острое впечатление цыганщины, какое едва ли дала бы здесь подробнейшая характеристика ее типа. Портретный дар Тургенева уже достигает здесь высших степеней его искусства.
Так в 1849 г. Тургенев зарисовывает в своем рассказе несколько фигур и оставляет их перед читателем, ожидавшим какой-то драмы. Двинуть эти образы, столкнуть их, заплести в одном драматическом действии ему удается значительно позже, почти через двадцать пять лет. Только в 1872 г. Тургенев, уже опытный рассказчик, несмотря на свою исконную антипатию к «постройке» повестей, сообщает этим великолепно зарисованным фигурам чисто трагическое действие. Друг и собеседник Флобера, он создает теперь несомненно один из своих шедевров (до сих пор, впрочем, не признанный таковым) — «Конец Чертопханова», поистине достойный пера автора «Coeur simple».
Он начинает с предупреждения о надвинувшихся бурных событиях. «Года два спустя… начались бедствия — именно бедствия…» Если теперь он останавливается на живописи образа, — его объект выявляет новые черты в напряженном драматическом действии:
«Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном — и все кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля.
— К Яффу! Яффу! — простонал Чертопханов, как только завидел Машу: — к Яффу! повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге.
Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла лицом к свету и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза — зрачки — еще более потемнели»…
В этой краткой сценке портрет Маши дополняется новыми штрихами и красками, но все это делается мимоходом, между прочим, в процессе прорвавшихся и неудержимо несущихся событий. Теперь Тургенев уже владеет тайной увлекательной и волнующей интриги; и как знаменательно, что для разработки возникшего драматического сюжета он обращается к богатой сокровищнице своих как бы неиспользованных ранних героев — к старым «Запискам охотника». Мастер рассказа именно теперь разовьет и закончит повесть, к которой в молодости он набросал только художественный перечень персонажей, некую образную рубрику «dramatis personae».
Вся композиция повести строится теперь на смене катастроф. Уход Маши, смерть Недопюскина, покража удивительного коня Малек-Аделя, отчаяние обезумевшего Чертопханова, страстные розыски лошади, новая тяжелая и медленная драма при появлении ложного Малек-Аделя, сцена убийства несчастной лошади, неповинно обманувшей иллюзии своего хозяина, но до конца доверчиво прижимающейся к нему мордой, наконец, смерть самого Чертопханова с охотничьей нагайкой в одной руке и кисетом, шитым Машею, в другой, — все это полно действия, движения, событий, эпизодов, затягивает в свое течение новых быстро и резко очерченных лиц, (Лейба, дьякон) и создает в размере небольшой повести конфликты подлинного трагизма[45].
Так научился строить небольшой рассказ стареющий Тургенев после долгого опыта своих романов и повестей, после многолетнего пристального внимания к развитию европейской новеллы, после долгой дружбы, бесед и переписки с «непогрешимым» Флобером.
VI
В эпоху зрелости Тургенев особенно озабочен вопросами повествовательной композиции. Дар рассказа — вот что преимущественно занимает стареющего художника, вот что направляет его внимание к образцам старинного европейского романа эпохи Возрождения и даже к арабским сказкам. Он пишет немецкому критику Юлиану Шмидту: «При всех огромных качествах немцев, им не хватает дара рассказчиков; романские народы имеют его с давнего времени (Боккаччо, Провансальцы и др.); мы, славяне, унаследовали кое-что подобное от Востока (1001 ночь и т. п.) — именно уменье выдвинуть сразу или наметить мотивы»[46].
И только теперь Тургенев принимается за такие тонкие и трудные сказочные композиции, как «Сон» или «Песнь торжествующей любви», где мастерски выявляется искусство быстрого развития сложного интригующего мотива с краткостью индийской притчи или флорентийской новеллы.
Но в молодости этот дар построения рассказа на смене событий, эта динамичность повествовательной техники была ему глубоко чужда. Он сам несомненно должен был почувствовать этот крупный недочет своей повествовательной манеры. Уже в 1853 году «Записки охотника» не удовлетворяют Тургенева. Приступив к работе над своим первым романом, пробуя свои силы на повестях и больших рассказах, он понимает теперь всю трудность и всю художественную стоимость правильной структуры и удачной архитектоники литературного произведения. Отсюда его осуждение своих ранних опытов, лишенных этих композиционных качеств. «Мои „Записки (охотника)“ мне кажутся теперь произведением весьма незрелым»… «Я надеюсь, что я уже пошел вперед и еще пойду — и сделаю что-нибудь посолиднее»[47].