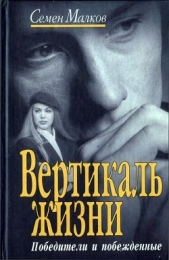Советская литература: Побежденные победители

Советская литература: Побежденные победители читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К Толстому нельзя не прислушаться в той же степени, в какой невозможно всерьез принимать указания былого начальства над литературой о «советском характере», о том, каким надлежит изображать «советский народ». И все же был период истории, когда слово «народ» обрело реальные смысл и соборность — вне и помимо политических спекуляций.
Понятно, о каком периоде речь — о Великой Отечественной войне.
Миф о войне
Справедливо ли включать разговор об Александре Трифоновиче Твардовском (1910–1971) именно в эту главу? Даже притом, что его имя в общественной памяти прежде всего связывается с поэмой Василий Теркин (1942–1945). (Как, нельзя не добавить, и с журналом Новый мир, чьим редактором дважды назначался Твардовский, — особенно значим и памятен период с 1958-го по 1970 год, пора, можно сказать, героического противостояния агрессивному официозу.) Притом, что и сам поэт сознавал: «книга про бойца» — его высшее и знаменитейшее создание; не случайно именно к ней и к ее герою он вернулся в поэме Теркин на том свете (первая, запрещенная редакция — 1954, окончательная, многократно улучшенная и наконец напечатанная — 1963). Вернулся, когда новая ступень осознания происшедшего со страной привела от эпики и героики к сарказму.
Итак, справедливо ли?.. Как-никак, Твардовский обычно именовал себя не «военным», а «крестьянским» поэтом. И впервые прославился поэмой Страна Муравия (1936), о крестьянстве, которое становилось колхозным, о вековечной народной мечте, знакомой и персонажам платоновского Чевенгура.
Сам автор, перечитав поэму тридцатью годами спустя, отмечал в рабочей тетради главы, которые «слабы и фальшивоваты», то, что «беспомощно», «натянуто и фальшиво», находя даже фальшь такой степени, что она вызвала в его самокритической памяти роман Кочетова Журбины. Правда, и оговаривая — справедливо, — что «сближение это нестерпимо для меня, — я фальшивил от чистого юношеского сердца, в самоотверженном стремлении обрести „благообразие“ в том страшном неблагообразии и распаде деревни».
Признание дорогого стоит. Как и совестливое сознание, мучившее Твардовского всю жизнь, что некогда он согрешил, отвернувшись от своей «раскулаченной» семьи, — не отсюда ли и его всем известная «слабость», не отпускавшие запои? Тем любопытнее, что в той тетради 1965 года одну из глав Страны Муравии он сам признал «изумительной» — и какую именно! «Главу о Сталине».
Как у многих его современников, Сталин был для Твардовского объектом безоговорочной любви — и не такой, как у Пастернака, чьи иллюзии на сей счет были, скорей, головными: интеллигент может заиграться в своих интеллигентских допусках и концепциях, затем отказавшись от них без особенной, рвущей сердце боли. Зато Твардовский отрывал от себя Сталина с болью и кровью: основа природного крестьянина, в свое время слишком многое уступившая ради того, что со Сталиным связано, не давала возможности скорого пересмотра.
Драма Твардовского — а какой большой писатель бывает без драмы, по крайней мере в России? — в том, что он слишком долго был в духовном плену, который, особенно при его самолюбии, казался ему добровольным. Слишком поздно вдохнул воздух свободы. Вот отчего: «Мало! слабо! робко!» — записал Александр Солженицын в книге Бодался теленок с дубом (1974) свои впечатления о поэме По праву памяти (1969, опубликована в 1987-м), которой Твардовский гордился.
Мало «для 1969 года», добавляет Солженицын, имея в виду политику, а не поэзию. «Слабо» и «робко» для тех времен, когда не только ему, лагернику, но и молодым поколениям той поры, по возрасту менее, чем Твардовский, подверженным иллюзиям, антитеза «хороший Ленин — плохой Сталин» могла казаться наивной. Но тем более искренне освобождение от сталинского гипноза в поэме За далью — даль (1950–1960), и если оно уже тогда разочаровывало своей замедленностью, зато радовало, что подобное благодаря Твардовскому, становилось доступным для подцензурной печати. А историк Михаил Гефтер даже видел его достоинство именно в том, что у него не было «легкости отказа от наследия».
Так оно, вероятно, и есть.
Но «глава о Сталине» из Страны Муравии в самом деле прекрасна, хотя бы в части своей, и, как ни странно, — внутренней раскрепощенностью (другое дело, что это раскрепощенность искренне любящего человека, обретающего свободу общения со своим кумиром от веры в его превосходные человеческие свойства). «— Товарищ Сталин! / Дай ответ, / Чтоб люди зря не спорили: / Конец предвидится ай нет / Всей этой суетории?.. / И жизнь на слом, / И все на слом — / Под корень, подчистую. / А что к хорошему идем, / Так я не протестую. /…Теперь мне тридцать восемь лет. / Два года впереди. / А в сорок лет — зажитка нет, / Так дальше не гляди. / И при хозяйстве, как сейчас, / Да при коне — / Своим двором пожить хоть раз / Хотелось мне. / Земля в длину и в ширину — / Кругом своя. / Посеешь бубочку одну, / И та — твоя».
Тут даже бедная рифма «своя — твоя» выражает настойчивость крестьянской надежды пожить своим двором…
«…Вот что значит истинная непреднамеренность, — заслуженно хвалил пятидесятипятилетний Твардовский себя молодого. — Ведь глава оказалась напечатанной только потому, что в ней Моргунок понимался как темный, смешной в своей психологии „последнего единоличника“ мужичонка, — таким и я старался его представить… Но теперь его „смешные“ мечтания выглядят исторически вещими… И никто в литературе не говорит так со Сталиным — это единственный случай сближения житейской, мужицкой труженнической мудрости с „догмой“ сверху, с „революцией“ сверху, по инициативе государственной власти».
Солдат Василий Теркин, разумеется, тоже особенно мил автору своей крестьянской породой; в отличие от Моргунка, даже породистостью, ибо в нем все на уровне простонародного аристократизма: «Ел он много, но не жадно, / Отдавал закуске честь, / Так-то ладно, так-то складно, / Поглядишь — захочешь есть. / Всю зачистил сковородку, / Встал, как будто вдруг подрос, / И платочек к подбородку, / Ровно сложенный, поднес». Но этого, конечно, было бы мало, чтобы, на сей раз, в отличие уже от всей в целом Страны Муравии, ни цензурные обстоятельства, ни ограниченность самого сознания Александра Твардовского не помешали создать вещь безупречно цельную. Не нуждающуюся в оправдательных оговорках насчет «текущего момента». Вообще не советскую — русскую!
Это с бдительным осуждением отметил в 1948 году Федор Гладков, сказавший, что Теркин — не советский солдат, а «персонаж всех войн и всех времен». И, со своей стороны, поэму одобрил Иван Алексеевич Бунин, хоть и настроенный в годы войны патриотически, но не забывший большевикам ничего из содеянного с Россией. (Его одобрение стало пожизненной гордостью Твардовского, что маскировалось иронией: «Меня сам Ванька Бунин похвалил!»)
В чем причины такой удачи — естественно, не говоря о таланте поэта?
Во-первых, поэма родилась на войне, когда опасная и оттого не демонстрируемая личная свобода (ее еще мог проявить Моргунок, по своей мужицкой наивности говорящий со Сталиным вне иерархических норм) вдруг обрела гармонию с державным духом. В этот раз уж точно как в XVIII веке, чей классицизм вовсе не родствен соцреализму. И во-вторых, была безошибочно выбрана форма «последней русской былины» о «последнем крестьянском богатыре» (замечание Давида Самойлова). Былины — то есть жанра, где вмешательство авторской личности ограничено самой природой его. Произошло приобщение «к последнему акту великой крестьянской трагедии, так мощно завершившейся последней войной», и даже Новый мир 50-60-х годов был, говорит Самойлов, в руках Твардовского «продолжением Теркина, его темы… Новый мир дописывал Теркина…». В первую очередь — проза Нового мира.
Не странно ли?
Парадоксально — это пожалуй, но странности нет, что сознаешь и с великим почтением, и с печалью, потому что трудно не думать о недовоплощенности поэта Твардовского. А как иначе, если, выходит, «тема», для него — главная, развивалась и продолжалась средствами, где его «я» художника не только вынужденно считалось с гнетущими внешними обстоятельствами, но и само равнялось не столько на полноту самовыявления, сколько на понятие «правды». Стократ почтенное, больше того, вновь скажем: героически отстаивавшее себя вопреки требованиям властей, но…