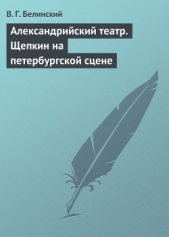Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе и речи о литературе, искусстве, театре, моде и о себе
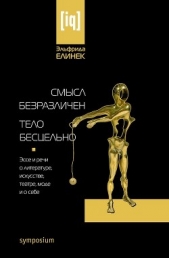
Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе и речи о литературе, искусстве, театре, моде и о себе читать книгу онлайн
Эссеистика Эльфриды Елинек, лауреата Нобелевской премии по литературе за 2004 г., охватывает разнообразные сферы культуры: литературу (Кафка, Лессинг, Брох, Йонке), театр (Брехт, Беккет, Ионеско, актерское искусство), музыку (Шуберт, Иоганн Штраус), кино, моду, громкие события светской жизни (принцесса Диана), автобиографические темы. Эта книга никогда не выходила на немецком или на других языках и, с разрешения автора, впервые публикуется по русски.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2001
ХОД ВРЕМЕНИ
© Перевод В. Ахтырской
Моему преподавателю игры на органе Леопольду Маркштайнеру
Я была совсем юной, когда поступила в класс органа к Леопольду Маркштайнеру. Мне было тринадцать. Я была еще ребенком, росла в нездоровой, нервной обстановке, и издержки такого воспитания не могла преодолеть тогда и, вероятно, не могу преодолеть до сих пор, а в те дни мне было даже психологически трудно выдержать занятия у великого педагога, обучавшего вообще-то взрослых. На прослушивание меня, совершенно не подготовленную, вызвали с уроков. На тебя обрушивается лавина информации, тебя захлестывают разнообразные сведения, ты — словно провод, через тебя как будто пропускают ток огромной силы, и кажется, еще немного — и ты вспыхнешь, если только не дашь деру. Вот парадокс. Точно музыка (а позже — слово, ставшее для меня «конечной станцией») — земля, по которой ходишь, но с которой страшно хочется убежать, что, естественно, невозможно, ведь в этом случае ты просто низвергнешься в бездну.
Так вот и ходишь, ощущая твердую почву под ногами, хочешь покинуть ее, спастись бегством, но не тут-то было. Что же ты испытываешь, когда приближаешься в процессе поисков к тому самому, единственному месту, которое так страстно ищешь и не находишь (потому что на нем стоишь!): ты по-прежнему чувствуешь, что этот мир тебе чужд и ты чужда ему. Сама не зная отчего. Ведь то, что под ногами, не увидишь. Стоишь, а разглядеть ничего не можешь. Думаю, даже если профессор, в ту пору сам еще молодой человек, не имевший опыта в общении с детьми, осознавал странности своей ученицы, ее полное отчуждение от всего, что ее окружало (и наоборот, в многолетних, с самого раннего детства, занятиях музыкой как раз и таилась одна из причин ее странности и чужести, — чего стоили одни гримаски, перешептывания и хихиканье, которыми тогда, в шестидесятые, модницы в вечерних платьях, с «бабеттами» на головах и в туфельках на шпильках провожали свою одноклассницу, а она тем временем неслась на урок музыки, таща на себе скрипку, альт и тяжелую папку с нотами! Когда подростка не принимает окружение, ему кажется, будто раскалывается весь мир, будто из — под ног уходит земля, которая и без того вращается слишком быстро и которую, как я уже говорила, никак не покинуть), и он в самом высоком смысле слова не замечал этих странностей и чужести. А если и замечал, то, по крайней мере, никак этого не показывал. Но о том, что он видел все это совершенно отчетливо, он сказал мне только много лет спустя.
Во всяком случае, он открыл для своей ученицы пространство, в котором земля хотя и не замедляла вращение, но в котором этому вращению можно было хоть что-то противопоставить — слышимость хода времени. То есть музыку. Я вовсе не имею в виду исчезновение клокочущего, бурлящего времени, стекающего в сточное отверстие сначала радио, проигрывателя, потом CD-плейера, нет, речь идет о течении времени, которое можно было услышать и одновременно направлять самостоятельно, времени, которое, по мере того как оно течет, нужно было тщательно делить на «части», чтобы его не утратить (соблюдать ритм! Леопольд терзал меня этим соблюдением ритма! в одном месте взяли, в другом добавили, иначе все рушится). Играла я, неизменно наращивая темп, словно мой собственный пульс меня обгонял. В таких случаях профессор всегда решительно, а иногда и в довольно резких выражениях меня осаживал. Тем не менее однажды ему это не удалось — он не мог быть рядом, когда в Моцартовском зале я в каком-то сумасшедшем темпе играла пьесу Мессиана [72] «Глаза на колесах» и вместе с тем буквально висела сама над собой вместо него и в ужасе смотрела со стороны на себя, набирающую страшный, невозможный темп. Понятия не имею, куда я так стремилась, но каждую секунду ожидала, что вот-вот собьюсь окончательно, что меня буквально выбросит в пустоту и я, покинув рамки пространственно-временного континуума, столкнусь там с самой собой. С точки зрения физики это, разумеется, бред, да и потом, я преувеличиваю. Но тогда я с самого начала действительно играла слишком быстро и уже не могла замедлить темп, так как старалась следовать совету учителя. Попался, который заигрался. Музыка, рождавшаяся под моими пальцами, настигала меня и время от времени злобно кусала за икры, пока я, спасаясь бегством, в ужасе нажимала на педали. Так творение иногда восстает не только против своего творца, но и против механика, в обязанности которого входит приводить его в действие. Пожалуйста, не так быстро! Я сказала себе: «Ты должна этому научиться, и сможешь, нет, наоборот, ты сможешь этому научиться, и должна». Не хочу даже вспоминать, как, уходя со сцены, я громко воскликнула: «Вот дерьмо!» Об этом Леопольд и сам может рассказать, если захочет.
Итак, мы можем разорвать связь времени с делениями погонного метра, времени, которое течет еще и вспять, противясь самому себе, так что на мгновение может показаться, будто мы остановились. Но лишь на какой-то миг сконцентрированной энергии время, которое мы создаем, совпадает со временем, в котором мы живем. Такое случается с тем, кто идет себе, идет, а потом решает остановиться, присесть и передохнуть, но не тут-то было, поскольку замечает, что давно уже там, куда шел, и, вместо того чтобы развернуть свой завтрак, он в ужасе вскакивает с места. Самодовольство и покой музыке не по душе. Нет, в музыке отдохнуть нельзя, ведь и в паузах всегда скрывается целое. Пауза — дыра во времени, а время, повторюсь, никогда не останавливается. Не останавливается, хотя и движется одновременно в противоположных направлениях. Музыка. Что-то, а именно то самое время, безостановочно движется в нас, даже когда время стоит, и мы вынуждены всегда двигаться туда, где мы, без устали работая, но ни на волос не перемещаясь, можем сохранить это бушующее в нас, чуть ли не разрывающее нас движение, но не для того, чтобы окончательно успокоиться, а для того, чтобы по-прежнему пребывать в этом движении, движении в состоянии покоя, и удержаться в нем.
Музыка отчуждает тебя от мира, хотя все постоянно слушают музыку, один — такую, другой — эдакую, от нее не спастись, она звучит повсюду, даже если это всего лишь рокот басов, и все-таки: если мы сами исполняем ее, мы отчуждаемся от мира и от самих себя, хотя и не до такой степени, как композиторы, но все-таки отчуждаемся, ведь в конце концов мы следуем их призывам, а куда они нас завлекают, следовало бы знать, если мы учились всерьез (о Господи!), но когда мы достигаем места назначения, почва внезапно уходит у нас из-под ног, мы сами куда-то исчезаем, понимая, что с уютом и покоем покончено, и становится не по себе, и под собой мы уже ощущаем не твердую почву, а что-то, что непрестанно движется, — подобно времени. Спасения от этого нет. Этим открытием я обязана Леопольду Маркштайнеру.
1999
ПОСВЯЩАЕТСЯ ФЛОППИ
© Перевод А. Белобратова
Животное лишено будущего, потому что оно не осознает своего настоящего, — думаю я. Оно живет сиюминутностью, живет, лишенное направления жизни, направлено на нас, к нам обращено, и мы должны быть довольны уже и тем, что оно не кусается и не царапается, а вот до большего дело не доходит, разве что бывает, что дело зайдет слишком далеко. Это значит, уж я надеюсь, что моя собака Флоппи проживет долго; однако само животное кончает свою жизнь, так сказать, вничью, поскольку жизнь его лишена цели и направления, пусть оно и приносит в зубах палку, которую я метнула вдаль, — щенка в свое время тоже метнули в жизнь, точно попав в цель. Флоппи ведет себя так, словно ни о чем не догадывается, нет, не отказываясь последовать приказу, исходящему от меня, от того, кто всегда в ее распоряжении, всегда дает ей кров, с большой охотой в любую секунду показывая себя с новой стороны, мне, человеку, от которого все постоянно отказываются, но который всегда стремится всем на что — то указать. Стало быть, я каждую минуту пытаюсь установить связь со временем, делая что-то, что, по возможности, должно быть единственным в своем роде. Что-то рвется из меня наружу, и я, по меньшей мере, этому не препятствую. Я надеюсь, что собака не убежит от меня, хотя она вновь и вновь храбро пытается улизнуть. Предположим, в животном происходит нечто, всегда недоступное взору, остающееся скрытым и сейчас, и я могу вообразить, что я единственная, кто способен постичь эту тайну, поскольку совершенно неясно, что, собственно, представляет из себя это животное. Полагаю, что оно — некая проекция «я» для того человека, кто лишен приюта и опоры, именно потому, что животное можно приютить. Стало быть, я — владелица Флоппи, собаки, которая в глазах закона является всего лишь вещью, а я — ее владелицей, вот потому она всегда со мной, хотя я бываю порой не в себе. А кем бы мне еще можно было владеть? Вот собака отправляется стеречь лес, от которого другим стоило бы поостеречься. Лес приветствует меня из-под своей зеленой кроны, он только и ждет, чтобы я затерялась в нем, на мягкой подушке там и сям валяются ветки, которые я бросаю с размаха, посылая за ними собаку. Животное мечется по лесу, всё обнюхивая, всюду приподнимая ножку, оно — единственное, что свидетельствует о естественности бытия, и о собаке не надо задаваться вопросами, разве что когда она убегает слишком далеко, ведь время для нее предстает как некое пространство игры! Внутри своего времени я бесконечно долго жду, пока собака вернется ко мне. Лучше всего вообще не задаваться вопросами, а сразу же громко позвать собаку по имени, правда толку от этого мало. Впрочем, есть надежда, что собака еще не забыла свое имя, чего не всегда можно ждать от слов, с которыми имеют дело люди моей профессии. Мне известно, что мои слова откуда-то меня знают, однако когда мне удается отыскать нужное слово, оно ведет себя так, будто видит меня впервые. Правда, даже если собака знает, как ее зовут, она не обязательно откликается на зов. Да-да, это воплощенное бытие в его уникальности, — успеваю подумать я и вдруг замечаю, что оно — бытие это — повторяется сколько угодно, когда собака снова пробегает мимо меня, только выглядит она теперь еще непокорнее, почти как чужая, и в этом, видно, заключается ее природа. Присуща ли повторяемость природе животного в большей степени, чем природе человека? Животное появляется только там, где ему заблагорассудится, человек же ограничен в своей свободе. Остается одно: ждать, пока вдруг не произойдет нечто неожиданное и собака вновь не материализуется перед тобой, предстанет как таковая или же появится с таким видом, словно видит тебя в первый раз. Так-то вот. Сейчас десять градусов мороза. На таком холоде метафизика или мышление могут быть вязкими и тягучими настолько, насколько им заблагорассудится, а животное в своей шкуре еще более морозоустойчиво, оно не считается с моим мнением, о себе оно тоже не задумывается, над ним не властна его суть, а уж я не властна и подавно. Собака бегает там, где ей нравится, там, где суть ее плотно сливается с ней, что не составляет для собаки никакого труда, ведь она такова по сути, и только. Я могу сотни раз пытаться оттолкнуть себя от себя, чтобы самой стать другой, к примеру стать камнем, ведь камень не мерзнет, но мне не удается смягчить каменное сердце этого животного. Собака не возвращается. Могу ли я выразить это другими словами? Собака — это нечто, что было мне вверено и что тем самым отбрасывает меня к моей собственной сути, собственно, отбрасывает прочь, поскольку мне никогда не достичь этой ступени чистого бытия. Собака не может задавать вопросы, однако иногда подает голос, прежде чем схватить брошенную мною палку (охотничий инстинкт!), собака без всяких вопросов пребывает здесь или уносится прочь, ей не приходится цепляться за бытие, поскольку она всегда здесь, пока она, к сожалению, не унесется опять, в то время как мои ногти впиваются в кожу, чтобы мне не потерять саму себя и чтобы внести в свою жизнь определенную ясность и направление, чтобы вообще присутствовать здесь. Стало быть, такой вот естественности бытия, которой обладает Флоппи, мне не достичь никогда. Бог мой, мое терпение иссякло! Я снова зову Флоппи, собака бежит мне навстречу, ее присутствие здесь и сейчас реальнее всего на свете, и все же она не следует за мной.