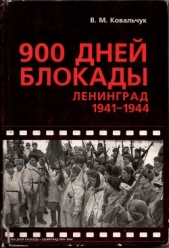Блокадная книга
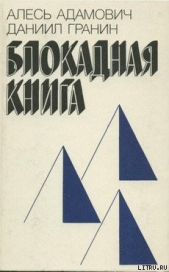
Блокадная книга читать книгу онлайн
Переиздание широко известного произведения, в котором, основываясь на большом фактическом материале — документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, — авторы рассказывают о мужестве защитников города, о героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1941.XI.8. Суббота. Сто сороковой день войны. Печальное зрелище представляет собой ряд старинных домов по набережной от 1-й линии до университета: все они стоят с вылетевшими или разбитыми окнами. И Меншиковский дворец был, по-видимому, в центре взрывной волны, все его круглые окна вверху и окна в среднем этаже над балконом зияют пустотой, не осталось ни одного стекла. В нижнем этаже выбиты только отдельные стекла. В крыльях Меншиковского дворца также множество разбитых и вылетевших стекол, исковерканных рам. Такие же разрушения в доме б. Архива военно-учебных заведений и в филологическом факультете университета. Что случилось, так я и не мог понять: разрушений от бомб самих зданий нет, цела и набережная. Дворник сказал мне, что бомба упала в Неву близко от берега и разбила все стекла на набережной. Но может быть, это результаты разорвавшихся снарядов вчерашнего артиллерийского обстрела, когда мы утром слышали канонаду. Есть и третий вариант. Напротив, у Сената, стоит трехтрубный военный корабль с морскими дальнобойными орудиями. Из них, говорят, третьего дня во время налета стервятников было сделано несколько залпов. Мне и раньше говорили моряки, что если заговорят дальнобойные орудия с кораблей на Неве, то у нас на набережной все стекла из окон повылетят.
В Академии наук покуда все по-прежнему; только старые рамы в окнах Зоологического и Этнографического музеев закрывают пластырем из фанеры.
Всматривался в набережную противоположного берега Невы. Новых разрушений в окнах не видно, потому что большинство из них давно забиты щитами.
1941.XI.19. Трубы кораблей, стоящих вдоль набережных по Неве, окрасили в белый цвет. Автомобили грузовые из окрашенных зелеными пятнами покрылись белою краской, под цвет снега.
Нева начинает затягиваться льдом.
Около здания Первого кадетского корпуса по Съездовской линии все время у ворот и подъездов толпятся женщины, молодые, старые, дети, ожидающие свидания с родными — ранеными и выздоравливающими бойцами. Иногда почему-то толпа быстро перебегает с одного места на другое, заглядывает в окна. У одних вдруг глаза повеселеют, другие стоят угрюмые, раздраженные или совершенно ко всему равнодушные. У некоторых узелочки в руках.
И без того плохо одевавшиеся ленинградцы теперь совершенно потеряли всякий стиль, особенно женщины. Вчера видел пару: он в военной форме, она под ручку с ним в серой стеганке, ватных штанах-шароварах и коричневой феске с кисточкой. А лицо молодое, простое, довольное. Идет, по-видимому, с женихом или молодым мужем. Одежда других сборная, с «хронологическими наслоениями». Трудно, почти невозможно будет восстановить впоследствии художнику, писателю эту толпу, как она выглядит на улице; неизбежно придется прибегать к выдумкам и бутафории».
Такие дневники редкость. Большинство людей записывали свои переживания, свою борьбу за жизнь, за близких. Есть дневники — трагические повествования о судьбе какой-либо семьи или человека, о том, как он отчаянно сопротивлялся, как работал (большинство дневников вели люди работавшие). Попадались нам дневники, описывающие главным образом, где и что съедено, как отоваривали карточки, сколько продуктов выдавали. В одном из них со всевозрастающей скрупулезностью В. Беляков записывал:
«6 января 1942 г. Ходил в столовую на Чубаровом пер. Скушал четыре порции каши из дуранды — больше ничего не было. За кашу оборвали 50 гр. крупы… Каша плохо переваривается, чувствую боли в желудке…
16 января. За хлебом стоял около двух часов. Встал в 5 ч. утра… и только в 8 часов получил теплый хлеб… Обед сегодня принял сказочный характер, он длился с 11 ч. до 16–30. За это время скушал одну тарелку щей, один суп-лапшу и один перловый суп. Много пил воды, лицо сильно опухло…»
С непонятной ныне настойчивостью перечисляются почти ежедневно эти цифры, тарелки, граммы. В этом была жизнь, а может, это казалось самым важным, самым ценным и для истории? И тут же изо дня в день тянется рассказ о том, как он, Беляков, искал, кто бы ему переделал боксерские перчатки в рукавицы, потому что руки мерзли беспощадно, а надо было носить и дрова, и хлеб, и воду.
Многие только с наступлением блокады принялись — впервые в жизни — записывать. Люди вдруг ощутили, что оказались в центре событий таких, в которые завтра они сами не поверят: да было ли, могло ли такое происходить, можно ли было пережить все это? Вот записи нашего разговора с Галиной Григорьевной Бабинской. О ней мы уже упоминали — высокая немолодая красивая женщина, живущая в старой «петербургской» квартире, где и рояль, и стены, и лепной потолок тоже как бы часть «блокадного дневника».
«— Вот обваленный потолок был заделан потом, знаете, как это ни странно, пленными немцами.
— Что? Вот эти рисунки — это они делали?
— Нет, там штукатурка просто была. Вот эта заплата, светлая, это заделали они. У нас сосед был, которому дали немцев на ремонт его комнаты, а он к нам их направил ремонтировать потолок. Это было, наверно, в сорок шестом или сорок пятом году. Если не в сорок четвертом. Здесь нужно восстановить лепнину и роспись, но это дорого и руки не доходят. А вот осколки стекла тут, в рояле, блестят до сих пор. В доме напротив взорвалась бомба. Дом был тогда двухэтажным (сейчас надстроено два этажа). Я была на работе. А мои мама и бабушки оставались здесь. Это был сорок второй год. Сейчас я старший научный сотрудник Государственного музея этнографии народов СССР. Так что я этнограф, до некоторой степени путешественник. Заодно мы еще и туристы: вдвоем с мужем лодочники. Вот у нас и байдарка тут стоит.
— Дневник писался, когда вам было девятнадцать лет?
— Да, мне было девятнадцать.
— Скажите, с какой мыслью вы его писали?
— Трудно сказать. Вероятно, все-таки события были таковы, что как-то остаться незафиксированными они просто не могли. Самая главная мысль была та, что когда-то, когда все это кончится (а в этом сомнения не было, раз мы писали такие вещи), вот когда все это кончится, и самой читать, и, очевидно, прочесть тем, кто этого не видел.
— А до войны вели дневник?
— Ну, школьный, какой-то там ерундовый… Привычка писать у меня, надо сказать, и до сих пор сохранилась.
— И уверенность была, что выживете?
— То есть в этом не было никакого сомнения! Это какая-то глупая надежда была. Вот даже идешь по улице, — обстрел и бомбежка, и почему-то думы о том, что это может коснуться меня или моих близких, у меня никогда не было: где-то с кем-то что-то, но не со мной и не с моими близкими.
— А какая у вас была семья? С кем вы тогда жили?
— Я, мама, две бабушки было на тот момент».
Галина Григорьевна читала нам свой дневник и поясняла его время от времени:
«— «15 декабря 41 года. Прошел последний трамвай. Трамвайные пути занесены снегом и покрыты льдом. Провода повреждены. Вагоны стоят на путях»… А надо сказать, что потом я стала работать в Трамвайно-троллейбусном управлении и восстанавливала как раз вот ту самую трамвайно-троллейбусную сеть, о которой первые строчки моего дневника. «25 декабря. Увеличили норму хлеба: со 125 граммов до 200 граммов (это служащим) и с 250 до 350 — рабочим. Кузька спасен от смерти…» Кузька — это кот. Этого кота мы собирались со дня на день съесть, со дня на день покушались на его жизнь. Кот был чистый, домашний, очень хороший и очень любимый. И запись эта не случайна, поскольку каким-то образом этот момент был отсрочен. Ну, мы думали, что он вообще спасен, но ничего не получилось. «28 декабря. В квартиру перестала поступать вода. Приходится брать ее в первых этажах… Деликатный момент: 30 декабря последний раз пользовались уборной. Двор принял первый «подарок» в конвертике…» Понятно? Да? Можно не комментировать. «Редко чистим зубы. Моемся не больше одного раза в сутки. Вода в ведрах и банках на кухне замерзает. В конце января переставились в комнате: в комнате «буржуйка». Греемся, готовим пищу три раза в день и пользуемся ею (то есть «буржуйкой») как освещением. 18 января. Догорела последняя свечка. В керосиновую лампу налит бензин. Пользуемся ею только во время еды…» А вот это существенно, это вообще говорит о нашем состоянии: во время утреннего завтрака, на кровати, рядом с обеденным столом, в той вот комнате умер Меншиков. Это одной из наших бабушек приемный сын. Ну, это, в конце концов, неважно — приемный, не приемный. Важно то, что человек лежал тут же в комнате на кровати, пока мы принимали вот эту самую долю утренней пищи. Он умер, но завтрак был доведен до конца. Наступило уже какое-то торможение, не было места для таких эмоций, которые естественны для нормального человека и для нормального состояния… «За рытье могилы и похороны просили килограмм хлеба и 300 рублей деньгами».