Размышления читателя
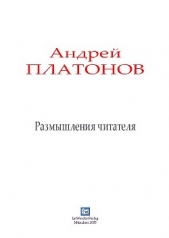
Размышления читателя читать книгу онлайн
Предлагаемая читателю книга — критические статьи А. Платонова, написанные им в конце 30-х годов и публиковавшиеся в журналах тех лет.
Талантливые, оригинальные статьи А. Платонова о русской классике (Пушкине, Лермонтове, Короленко), о современных писателях (Горьком, Маяковском, Н. Островском, Крымове, Ахматовой), о зарубежных писателях (Хемингуэе, Олдингтоне, Чапеке) не только помогают лучше понять творчество самого Платонова, но и представляют большой интерес для нашего литературоведения.
Андрей Платонов уверенно и убедительно выступает в защиту основных принципов реализма. Оценки классической литературы, современной ему советской литературы, характеристики европейских и американских писателей опираются на прочное убеждение, что литература является важнейшей частью духовной жизни страны, важнейшим участником социалистического строительства.
Составитель М. А. Платонова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Не нужно, — сказала она. — Вы еще нездоровы». — «Я здоров. Иди сюда». — «Нет. Вы еще слабы». — «Да ничего я не слаб. Иди». — «Вы меня любите?» — «Я тебя очень люблю. Я просто с ума схожу. Ну, иди же сюда». — «Слышите, как сердце бьется?» — «Ч то мне сердце! Я хочу тебя. Я с ума схожу… Закрой дверь». — «Нельзя. Невозможно». — «Иди. Не говори ничего. Иди сюда». Спустя немного времени: «Кетрин сидела в кресле у кровати. Дверь в коридор была открыта. Безумие прошло, и мне было так хорошо, как ни разу в жизни». Механика простая и откровенная, но для исполнения этой механики и для последующего хорошего ощуще- ния не обязательно быть человеком. При подобных обстоятельствах, наверно, бывают счастливы и животные. Хемингуэй и сам понимает несовершенство или недостаточность таких отношений любовников. Он ищет и находит то средство, где любовь Кетрин и Генри наконец очеловечивается. Этим средством оказываются роды и смерть Кетрин. «Я сидел у дверей в коридоре (больницы). У меня внутри все было пусто. Я не думал. Я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтоб она не умерла. Не дай ей умереть. Не надо, господи, не дай ей умереть. Я все сделаю для тебя, только не дай ей умереть. Не надо, не надо, не надо. Милый господи, не дай ей умереть. Милый господи, не дай ей умереть. Не надо, не надо, не надо, не дай ей умереть. Господи, сделай так, чтобы она не умерла». Кетрин умерла, Генри ушел от ее смертного ложа другим человеком, чем пришел сюда на последнее свидание. Ценою своей жизни Кетрин достигла, вероятно, некоторого улучшения Генри как человека — облегчения его от участи быть подавленным лишь своими животными инстинктами. Смерть ребенка и затем жены заставила прибегнуть Генри к беспомощной, детской молитве, она потрясла и нарушила его «мужественную», животную натуру. Но откуда же появилась эта упорная «животность» молодого человека, кто заразил его бешеной страстью к пище, вину, к женщине и к безделью? Вспомним, что в «Прощай, оружие» большинство страниц посвящено как раз этим предметам. Конечно, причиной такого снижения человека явилась империалистическая война. Война и ее современное последствие — фашизм — начали и пока еще продолжают на Западе дело ликвидации человека во всех отношениях, вплоть до физического. Если надолго лишить человека какой-либо необходимости, то он, естественно, становится одержимым ради удовлетворения этой необходимости. Генри пережил войну — и в результате он спрятался от всего мира в швейцарскую хижину вдвоем с Кетрин. Их уединение и почти болезненное взаимное блаженство, получаемое из примитивной сексуальной любви, безделья и обильной пищи, объясняются безумием и смертельной опасностью, которые реально содержатся во всем империалистическом мире. Им деться и спастись некуда, как только крепко обняв друг друга, и им надо спешить, потому что их каждый час могут разлучить насильно и уничтожить. С этой точки зрения может быть понята и художественно оправдана маниакальная, механическая, грубая прямолинейность Генри. Он храбро пытается отстоять перед империализмом свои человеческие права, нужду и достоинство — пусть это ему удается сделать лишь в самых простейших, почти животных элементах, но ведь его могучий противник хочет отнять у него абсолютно все — жизнь; если удается отстоять даже очень немногое — это уже большая победа. Но природа и история существуют и продолжаются вопреки империализму.
Рождается мертвый ребенок, умирает Кетрин, Генри уходит из больницы в ночь, в дождь, в свое будущее, которое уже не может быть и не будет похожим на его прошлое. Но это лишь пока надежда и обещание, а роман заканчивается.
Трагедия романа «Прощай, оружие» заключается в следующем. Любовь быстро поедает самое себя и прекращается, если любящие люди избегают включить в свое чувство некие нелюбовные, прозаические факты из действительности, если будет невозможно или нежелательно совместить свою страсть с участием в каком-либо деле, выполняемом большинством людей. Любовь в идеальной, чистой форме, замкнутая сама в себе, равна самоубийству, и она может существовать в виде исключения лишь очень короткое время. Любовь, скажем парадоксально, любит нечто нелюбовное, непохожее на нее. Доказательство этому есть и в романе «Прощай, оружие». Любовь Генри и Кетрин, с самого начала принявшая «солдатские», жадно-примитивные формы, к концу романа стала приобретать все более болезненные качества, вырождаясь в почти беспрерывное, гнетущее наслаждение любовников друг другом и уединенной жизнью, — и эта жизнь уже стала беднеть от привычки, от повторения самой себя, от разрыва сообщения с питанием ее из внешнего мира. Для истинной жизни, оказывается, недостаточно только однажды родиться, нужно еще чуть не ежедневно возрождаться, и матерью тогда нам служит уже вся земля, все современные нам люди… Таким образом, любовь Генри и Кетрин оказалась заключенной в собственную темницу. Но откуда же они могли впустить свет в свою все более темнеющую тюрьму, если снаружи, вне их, стояла ночь войны, если, иначе говоря, сама действительность, то есть нелюбовная, «прозаическая» сила, которая могла бы быть необходимой и полезной для продолжения их счастья, представляла собой империалистическую войну, томление и смерть? В чем тогда Генри и Кетрин должны были принять участие, оторвавшись один от другого, но все же не разлучая надолго своих любящих рук? Им нечего было делать, на войне они уже были оба и знают, что она такое. Они были бы согласны войти лишь в тот мир, который до гроба питал бы их чувство друг к другу, а не тот, который разорвал бы их тела на куски. Любовь, если она и «любит» нечто постороннее для нее, нелюбовное, то делает это только в своих эгоистических целях — для сохранения и продолжения своего состояния. Роман «Прощай, оружие» мог иметь и другое окончание, не смерть Кетрин: историю угасания любви Генри и Кетрин либо историю продолжения их любви, — но тогда роман вообще не мог бы быть окончен, а жизнь любящих превратилась бы в бег на месте, в порочное, мнимое движение (в тексте романа эта последняя тенденция уже явно наметилась: тема почти остановилась, диалог заменил действие, реальное содержание романа все более исчерпывалось, одинокие любовники, подобные двум растениям, пересаженным из общей земли в глиняный горшок, уже истощили под собою горсть почвы — «украденное» из враждебного мира счастье — и были близки к увяданию). Тогда Хемингуэй ввел в роман катастрофу, двойную смерть — Кетрин и ее ребенка — и этим закончил свое произведение… Можно ли было найти лучшее завершение романа? Можно. Истинная действительность, от недостатка которой втайне томились и Кетрин и Генри, пытаясь целиком заменить ее патологической любовью, прячась в свою общую постель, в темную ночь от светлых дней, — эта истинная действительность и тогда состояла не из одного империализма, миллионы людей в тылу и на фронтах скрыто и явно уже чувствовали на себе и понимали сущность империализма, — они сознали себя его врагами и решили преобразовать действительность. Истинный ход вещей состоял именно в движении смертоносного империализма к своей гибели под ударами обнищавших, полуистребленных, отчаявшихся народов. Включение Генри и Кетрин в такую общую жизнь дало бы их счастью глубину, постоянно обновляемую свежесть и неистощимое бессмертие, потому что их питал и поддерживал бы тогда целый мир, а не только два испуганных, полудетских и дрожащих сердца. Но мы, очевидно, требуем от автора слишком много. Вернее, мы требуем не слишком много, а слишком рано. Позже и сам Хемингуэй вплотную приблизится к пониманию превосходства революционной действительности над всякой другой.
Теперь мы сможем лучше понять и особенности стиля Хемингуэя. Хемингуэй прячет своего молодого героя в нейтральную страну и в любовь, чтобы спасти его от гибели и одичания в войне, — спасти его жизнь прежде всего, хотя бы в ее первоначальных, элементарных инстинктах, а уже сама жизнь затем позаботится о своем достоинстве и заработает его, если человек вообще способен на достоинство и желает его. Вынужденный помещать человека в столь тесную обстановку, как «любовь до гроба», еда, сон и выпивка, — вынужденный империалистическими обстоятельствами войны, — автор понимает, что это всего-навсего исполнение желаний окопного солдата империалистической армии. Остается лишь заплакать или завопить о судьбе человека, то есть при- бегнуть к средствам не художественного порядка. Следовательно, нужно спрятать свой вопль, превратить его в безмолвие, нужно скрыть свои слезы за хладнокровием, а еще лучше и надежней — за цинизмом и грубой сексуальной откровенностью. Нынешний капиталистический мир по примитивизму и жестокости жизненной борьбы труднее, чем ледяные арктические области Джека Лондона, и герои Хемингуэя и Лондона ведут себя приблизительно одинаково, они приблизительно и похожи друг на друга. Разница их поведения и характеров определяется разницей среды и времени, причем среда и время у Хемингуэя тяжелее и опаснее, чем у Лондона. Но все же мы чувствуем, что за грубыми словами и поступками, за беспощадными действиями героев Лондона и Хемингуэя таится человеческая, добрая, даже грустная душа, и мы можем видеть, как солдат — циник, бабник и пьяница — плачет над трупом своей женщины более неутешно, чем любой порядочный джентльмен-однолюб.

























