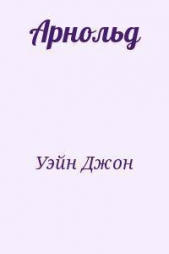Порабощенный разум
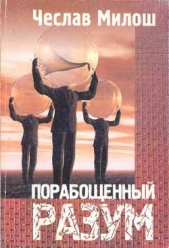
Порабощенный разум читать книгу онлайн
Книга выдающегося польского поэта и мыслителя Чеслава Милоша «Порабощенный разум» — задолго до присуждения Милошу Нобелевской премии по литературе (1980) — сделала его имя широко известным в странах Запада.
Милош написал эту книгу в эмиграции. В 1953 г. она вышла в Париже на польском и французском языках, в том же году появилось немецкое издание и несколько англоязычных (в Лондоне, в Нью-Йорке, в Торонто), вскоре — итальянское, шведское и другие. В Польшу книга долгие годы провозилась контрабандой, читалась тайком, печаталась в польском самиздате.
Перестав быть сенсацией на Западе и запретным плодом у нас на Востоке, книга стала классикой политической и философской публицистики. Название, тема, жанр и стиль книги соотнесены с традициями Свифта, Монтескье, Вольтера, с традициями XVIII века, Века Разума. Милош называет свою книгу трактатом, точнее — это трактат-памфлет. Глубина мысли сочетается с блеском остроумия.
В центре внимания Милоша — судьба интеллектуалов, особенно писателей, в XX веке, веке тоталитаризма, веке огромного психического давления на людей мыслящих. Книга трактует об этом на примере ситуации восточноевропейских интеллектуалов, подвергнутых давлению тоталитарной идеологии.
Судьба книги, жадно читавшейся в последующие пятьдесят лет в самых разных странах, показала, что интерес к этой книге не ослабевает.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
День решения наступил для Альфы лишь года два спустя после выхода романа. Он жил на своей прекрасной вилле, участвовал в комитетах и ездил по стране, выступая с лекциями о литературе в заводских клубах и домах культуры. Эти поездки писателей, организованные в широком масштабе, для многих были только тягостной обязанностью, Альфе же они доставляли удовольствие, потому что он таким путем знакомился с рабочей молодежью, ее повседневной жизнью и занимающими ее проблемами. Впервые Альфа действительно выходил за пределы своего интеллектуального клана. К тому же выходил в качестве писателя уважаемого; учитывая высокий ранг писателей в странах народной демократии, он мог чувствовать себя если не кардиналом, то по меньшей мере почтенным каноником.
Преобразование страны, согласно планам Центра, продвигалось вперед; подошла минута, когда сочли, что ситуация достаточно созрела, чтобы держать писателей пожестче и потребовать от них ясно высказаться за Новую Веру со всеми последствиями; «социалистический реализм» был провозглашен на съездах писателей единственно рекомендуемым творческим методом. Похоже, что Альфа пережил эту минуту особенно болезненно. Неслыханная ловкость Партии привела писателей к вратам обращения в веру так, что они почти не заметили. Теперь можно было или вдруг взбунтоваться и опуститься на самые нижние ступени общественной лестницы, или войти в эти врата. Оставаться половинчатым, платить одну монету Богу, а другую Кесарю было уже невозможно. Никто не требовал, чтобы писатели формально записывались в Партию. Понимая, однако, правильно, если ты принимал Новую Веру, — ничто этому не препятствовало. Такое решение свидетельствовало бы скорее об отваге: вступление в Партию означало не уменьшение, а увеличение обязанностей. Для Альфы, который очень заботился о своем положении самого ценимого партийными кругами прозаика, возможно было только одно решение. От него ждали, что он выступит как писатель — нравственный авторитет и даст своим поведением пример коллегам. Альфа за первые годы нового порядка на самом деле привязался к революции. Наконец-то он был писателем народным, его читателями были люди из рабочих масс. Его предвоенный роман, который так хвалили, разошелся тогда лишь в нескольких тысячах экземпляров. Теперь и он, и каждый писатель мог рассчитывать на большое число читателей. Он уже не чувствовал себя изолированным; он говорил себе, что он нужен — не двум-трем снобам из литературного кафе, но той новой, рабочей молодежи, перед которой он выступал в своих поездках по стране. Такая перемена произошла благодаря победе России и благодаря Партии, зависящей от Центра. Нужно было сделать из этого выводы и принять не только практические результаты, но и философские основы. Это не было для Альфы легко. Все чаще на него нападали за его пристрастие к монументальному трагизму. Он пробовал писать иначе — но когда он запрещал себе что-то, что лежало в самой природе его таланта, проза его становилась плоской и бесцветной, он рвал свои рукописи. Он задавал себе вопрос, неужели он, видя ежедневно вокруг себя новые трагические конфликты, свойственные жизни в большом коллективе, сможет отказаться представить их. Страна становилась большим коллективом, причины человеческих страданий были уже иные, нежели при капиталистическом строе, но не казалось, что сумма страданий уменьшается; наоборот, она росла. Альфа слишком много знал о России и слишком много знал о беспощадных средствах, применяемых диалектиками в отношении «человеческого материала», чтобы не иметь приступов сомнения. Он ясно сознавал, что, принимая Новую Веру, он перестанет быть писателем — нравственным авторитетом, а станет писателем-педагогом, который показывает в своих книгах не то, что мучает его самого, а то, что признано полезным. Отныне десять или пятнадцать специалистов будут взвешивать каждую его фразу и задумываться, не впал ли он в грех чистого трагизма. Однако пути назад уже не было. Альфа сказал себе, что в своей практической деятельности он уже коммунист. Сказавши так, он вступил в Партию и сразу же опубликовал большую статью о себе как о писателе. Это была самокритика, то есть акт, который в христианстве носит название исповеди. Другие писатели прочли эту статью с завистью и с ужасом. То, что Альфа всегда и во всем первый — возбуждало ревность; то, что он оказался таким проворным и поступил, как шахтер-стахановец, который первым обещает выдать необычайно много сверх нормы, — наполняло страхом; шахтеры не любят своих товарищей, слишком склонных получать поощрения за то, что они подталкивают других к speed-up [83].
Самокритика Альфы была написана весьма хитроумно. Можно признать ее классическим высказыванием писателя, который отрекается от прошлого во имя Новой Веры. Ее перевели на другие языки, ее печатали сталинские издания на Западе. Альфа осудил в этой статье свои давние книги. Он употребил при этом особый прием: он открыто признал то, что давно думал про себя о недостатках своих произведений; чтобы обнаружить эти недостатки, отнюдь не нужен был Метод; Альфа знал эти недостатки прежде, чем приблизился к марксизму; теперь он свое умение увидеть их приписал преимуществам Метода. Каждый хороший писатель знает, что дать себя обольстить красиво звучащим и эмоционально действенным словам, но пустым понятиям — это плохо. Альфа утверждал в своей статье, что он совершил эти ошибки потому, что не был марксистом. Он давал также понять (в соответствии с заповедью смирения), что не считает себя писателем коммунистическим, а только таким, который лишь старается овладеть Методом, этим высшим искусством. Обращал на себя внимание в статье высокопарный тон, приподнятый тон, свойственный Альфе всегда. Этот тон заставлял подозревать, что, осуждая свои ошибки, Альфа продолжал совершать их далее: он любовался складками своего священнического облачения.
Как бывшему католику Партия доверила Альфе функцию произнесения речей против политики Ватикана. Вскоре затем Альфа был приглашен в Москву. По возвращении он опубликовал книгу о «советском человеке» [84]. Доказывая, что истинно свободным человеком является только гражданин Советского Союза, Альфа и в этот раз притязал на пальму первенства. Его коллеги, пишущие похвалы Центру, хотя и знали, что такого рода рассуждение диалектически правильно, — до того времени не пользовались этим приемом. В литературном гетто Альфа не был любим. Я говорю «в гетто», потому что, несмотря на высокие тиражи книг и выезды на заводы, писатели замкнуты были теперь в своих писательских домах и в клубах не меньше, чем до войны в литературных кафе. Его коллеги, завидуя его успехам, которыми он был обязан благородству своего тона, называли его «блудницей с принципами».
Сурово осуждать Альфу мне трудно. Я сам был на этом пути, этот путь выглядит неизбежным. Я думаю, то, что сделало наши судьбы разными, таилось в небольшом различии наших реакций в тот момент, когда мы посетили развалины разрушенной Варшавы, и тогда, когда мы смотрели на заключенных.
Я чувствовал, что писать об этих вещах для меня невозможно: возможно было бы только высказать целую правду, а не ее часть. То же самое, впрочем, я чувствовал, участвуя в событиях, которые происходили во время нацистской оккупации в Варшаве: любая форма описания могла быть для них применена за исключением «fiction» [85]. Я припоминаю, что, когда Альфа читал нам в зачумленном городе свои рассказы, эксплуатировавшие тему «по горячим следам», мы чувствовали странное смущение: их композиция была слишком гладкой. Тысячи людей умирали тут же рядом под пыткой, поэтому транспонирование этих страданий сразу же в трагическую театральность казалось нам нескромным. Иногда лучше заикаться от избытка волнения, чем говорить округлыми фразами. Внутренний голос, который нас удерживает, когда нужно выразить слишком много, — мудр. Я могу допустить, что Альфа не знал этого голоса. Только страсть к правде могла бы уберечь его, чтобы он не стал тем, чем стал. Он, правда, не написал бы тогда своего романа о старом коммунисте и деморализованной молодежи; сострадание к ней он позволил себе там в пределах безопасных в отношении цензуры и получил признание, упрощая картину событий согласно пожеланиям Партии. Одно отступление от правды влечет за собой другое и третье, пока, наконец, все, что ты говоришь, не станет уже великолепно логичным, закругленным и замкнутым, но уже ничего общего не имеет с кровью и плотью людей. Это оборотная сторона медали диалектики: за умственный комфорт, который она дает, нужно платить. Вокруг Альфы жили и живут многочисленные рабочие и крестьяне, слова которых неуклюжи, но в конечном счете внутренний голос, который они слышат, не отличается от того наказа, который часто замыкает писателям уста и требует: все или ничего. Может быть, никому неведомый крестьянин или маленький почтовый чиновник должны быть поставлены выше в иерархии заслуг перед человеческим родом, нежели Альфа — моралист.