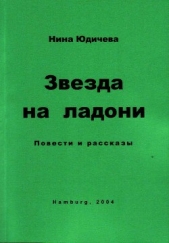Любовь, исполненная зла

Любовь, исполненная зла читать книгу онлайн
Журнальная редакция
Представляем новую работу Ст. Куняева — цикл очерков о судьбах русских поэтов, объединённых под названием «Любовь, исполненная зла…» Исследуя корни трагедии Николая Рубцова, погибшего от руки любимой женщины, поэтессы Дербиной, автор показывает читателю единство историко культурного контекста, в котором взаимодействуют с современностью эпохи Золотого и Серебряного Веков русской культуры. Откройте для себя впечатляющую панораму искусства, трагических противоречий, духовных подвигов и нравственных падений, составляющих полноту русской истории XIX–XX веков.
Цикл вырос из заметок «В борьбе неравной двух сердец», которые публиковалась в первых шести номерах журнала "Haш современник" за 2012 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Хрущёв, и Вознесенский ненавидели Сталина как термидорианца и диктатора, как «убийцу революции» не меньшей ненавистью, нежели та, которая клокотала в жилах Льва Троцкого. Впрочем, все известные либеральные «шестидесятники» — от Войновича до Аксёнова, от Окуджавы до Гладилина — были за продолжение революции, все были авторами книг серии «Пламенные революционеры», все они в эпоху оттепели устроили «заговор против Сталина», который не сумели реализовать их отцы при жизни «тирана». И Михаил Шатров свою пьесу «Дальше… дальше… дальше!» не зря же написал в хрущёвское время как бы от имени «пламенных революционеров» то ли ленинского, то ли троцкистского «разлива», как вызов ненавистному сталинизму.
У каждого из «маяковской троицы» «шестидесятников», кроме обязательной поэмы о Ленине, был ещё свой личный любимец из революционной эпохи.
У Вознесенского — это Тухачевский, который «играл на скрипке» и «ставил на талант». Поэт, видимо, не знал, что его кумир травил газами восставших тамбовских крестьян, то есть «ставил на террор».
У Роберта Рождественского любимцем был Роберт Эйхе (в честь которого дали имя будущему поэту), партийный руководитель Западно-Сибирского громадного края. В стихотворении «О моём имени» стихотворец рыдал над судьбой этого латышского революционера, погибшего в год «Большого террора», потому что, как и Вознесенский, плохо изучал историю родного отечества и не знал, что летом 1936 года, когда Сталин с небольшой группой своих единомышленников попытался сделать выборы в Верховный Совет СССР более демократическими, с включением в избирательный бюллетень кандидатов от общественных организаций, то против этого проекта выступила целая когорта «пламенных революционеров», руководителей республиканских и областных парторганизаций. Возглавлял эту когорту Р. Эйхе. Эти партийные бароны, испугавшиеся, что после кровавой коллективизации население не выберет их в Верховный Совет, решили «зачистить» электорат и потребовали от Сталина, чтобы он дал им право на «лимиты», по которым они отправили бы на расстрел и в ссылку всех выявленных в своих регионах контрреволюционеров. «Самыми кровожадными, — пишет в своей книге «Иной Сталин» историк Ю. Жуков, — оказались двое: Р. И. Эйхе, заявивший о желании только расстрелять 10 800 жителей Западно-Сибирского края, не говоря о ещё не определённом числе тех, кого он намеревался отправить в ссылку; и Н. С. Хрущёв, который сумел подозрительно быстро разыскать и «учесть» в Московской области, а затем и настаивать на приговоре к расстрелу либо высылке 41 305 «бывших кулаков и уголовников». Вот таков был вдохновитель и организатор XX съезда КПСС.
Сталин, не обладавший тогда полной властью, проиграл «агрессивному революционному большинству» схватку за демократизацию избирательной системы. Всё, что он мог, — так это вдвое снизить цифру в графе «Расстрел» из списков Эйхе, Хрущёва и других их соратников. Однако он не забыл унизительного поражения, и большая часть «партийных баронов», требовавшая «лимитов», — была репрессирована в течение следующих нескольких месяцев. Вот так Р. Эйхе оказался жертвой сталинизма и героем стихотворения Р. Рождественского.
А Евгений Евтушенко благоговел перед Ионой Якиром, о памятнике которому он возмечтал в годы перестройки: «Якир с пьедестала протянет гранитную руку стране». Мало того, что у нас на всех площадях стоял Ленин с вытянутой рукой, так нам ещё Якира не хватало в той же позе. Видимо, Е. Е. хотел, чтобы та «гранитная рука» указывала на донские земли, где Якир расказачивал станицы, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей.
Все известные «шестидесятники» бредили Серебряным веком. Но персонажи Серебряного века при всём их растлении — нравственном, эстетическом, религиозном, сексуальном — субъективно всё-таки были людьми честными и за свои грехи рано или поздно расплачивались эмиграцией, нищетой, самоубийствами, одиночеством, искалеченными судьбами, смертями в домах призрения… Наши же, ненавидя одним полушарием мозга образ жизни, сложившийся в Советском Союзе, родное государство, тоталитарный режим, другим полушарием сочиняли стихи и поэмы в честь основателя этого государства, во славу социализма и строек коммунизма, клялись в любви к певцу советского Отечества Маяковскому, получали Ленинские и Государственные премии, выполняли некоторые деликатные поручения КГБ, при этом проклиная в душе «кровавую гэбню»… Политическая, мировоззренческая и душевная шизофрения — вот главный диагноз, главная болезнь либерального шестидесятничества.
Владимир Маяковский является основоположником советской «ленинианы», которая началась с его монументальной поэмы о Ленине. Продолжателей, подражателей и эпигонов у него после смерти появилось много. Маяковский верил, что рано или поздно советская наука найдёт способы воскрешения людей и жаждал быть воскрешённым. Талантливый литератор Юрий Карабчиевский в книге «Воскресение Маяковского» пришёл к мысли, что это чудо «уже имело место в советской реальности <…> произошло это, разумеется, в виде фарса и сразу в трёх ипостасях. Три поэта: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Каждый из них явился пародией на какие-то стороны его поэтической личности.
Рождественский — это внешние данные, рост и голос, укрупнённые черты лица, рубленые строчки стихов. Но при этом в глазах и в словах туман, а в стихах халтура, какую разве лишь в крайнем бессилии позволял себе Маяковский.
Вознесенский — шумы и эффекты, комфорт и техника, и игрушечная заводная радость, и такая же злость.
Евтушенко — самый живой и одарённый, несущий всю главную тяжесть автопародии <…> Ни обострённого чувства слова, ни чувства ритма, ни, тем более, сверхъестественной энергии Маяковского — этого им было ничего не дано <…> они заимствовали одну важнейшую способность: с такой последней, такой отчаянной смелостью орать верноподданнические клятвы, как будто за них — сейчас на эшафот, а не завтра в кассу…»
Невозможно себе представить Маяковского, преподающего какой-то курс по русской поэзии в какой-то американской Оклахоме, чем много лет занимается его «автопародия».
Но ежели всё-таки наука добьётся воскрешения нас, грешных, и Маяковский встретится в каком-нибудь из миров со своими «тремя ипостасями», то, грозно взглянув на них, он может позволить себе прочесть своим громовым голосом:
Серебряный век с его воплями о том, что «человек — это звучит гордо», «человек — мера всех вещей», «если Бога нет, то всё позволено», «поэтам вообще не пристали грехи», в сущности, требовал от общества признания новой языческой религии, которая в наше время стала называться «правами человека».
Конечно, советским вождям никакая религия, кроме религии социализма, понравиться не могла. Но всё, что произнёс Жданов о творчестве Ахматовой и Зощенко, выглядит либеральным детским лепетом рядом с оценками Серебряного века многими знаменитыми людьми русской литературы.
Из выступления И. А. Бунина на юбилее газеты «Русские ведомости» 8 октября 1913 года:
«Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьёзность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась вульгарность и дурной тон, — напыщенный и неизменно фальшивый… Опошлен стих. Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, чему только не подражали мы <…> каких только стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролёт в вечность», и садизм, и приятие мира, и неприятие мира, и адамизм, и акмеизм… Это ли не Вальпургиева ночь!»